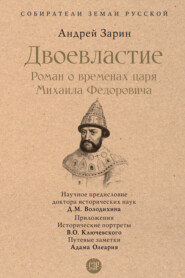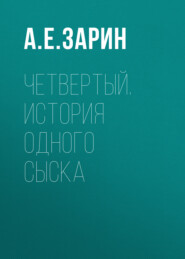По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
На изломе
Автор
Жанр
Серия
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не старцы и старицы, а слуги Христовы! – ответила Морозова, не вставая со стула, на котором сидела.
– О, овца заблудшая…
– Вы заблудшие, а не я!
– Не перебивай речи…
– И слушать вас зазорно!
– Истинно ты бесом обуяна, – с горечью сказал Павел, – ответствуй спроста. По тем служебникам, по которым царь причащается, и благоверная царица, и царевич, и царевны, причащаешься ли ты?
Морозова только усмехнулась.
– Известно, нет! Потому я знаю, что царь по развращенным Никоном изданиям служебников причащается.
– Как же ты об нас всех думаешь? – с гневом вопросил Павел. – Что? Мы все еретики?
– Ясно, что все вы подобны Никону, врагу Божию, который своими ересьми как блевотиной наблевал, а вы теперь его скверненье подлизываете!
– Так ты не Прокофьева дочь, а бесова!
– Я дочь Христова!
– Врешь, бесова! В железа ее!..
Ее ухватили и, спешно заковав в кандалы, надев цепи на шею, повлекли через весь Кремль в подворье Печерского монастыря, где и посадили в яму.
Она же пела и славила Господа.
Княгиню Урусову заточили в Алексеевском монастыре, где ее мучили и терзали старицы, заушая ее, лишая пищи и всячески глумясь над ней за ее упорство.
Терентий страдал и уже не мог скрыть от людей своих страданий. Лицо его осунулось, глаза загорелись лихорадочным блеском.
Царь пытливо посматривал на него и качал головой или хмурился. Прежде Терентий прикрылся бы улыбкой или отвел взгляд. Теперь же он дерзко, вызывающе взглядывал в ответ, словно ожидая опалы и радуясь.
Царь говорил Петру:
– Что брат твой? Никак и он старой веры и за Морозову мне супротивник!
Петр вспыхивал, но не решался сказать правды.
– Не знаю о нем ничего. Сторонится он нас. Одно знаю, что все мы, Теряевы, за тебя готовы животы положить.
– Все ли? – недоверчиво говорил царь и задумывался.
Борьба со староверами все более и более омрачала его, нарушая его тихий покой, расстраивая его веселье, забавы и игры с молодой женой.
IX
Небесная кара
Грех смертоубийства, грех волхвования. И в наше безверное время убийство ближнего считается преступлением и против общества, и против духа. В ту же пору не было ужаснее греха, чем отравление жены мужем или мужа женой; равно и волхвование казалось тяжким преступлением.
Воспитанный в таких традициях, князь Тугаев не мог вынести на своей совести этих страшных грехов.
Они давили и терзали его.
Лицо его потемнело и осунулось, глаза глубоко ушли в орбиты, и взгляд сделался тревожен и пуглив.
– Анна, – говорил он иногда ночью жене своей, – не оставляй меня одного. Не уходи от меня. Мне мерещатся призраки умерших!
Анна трепетала.
– Сокол мой ясный, что с тобой? Какая кручина у тебя? Скажи мне!
Он слабо улыбнулся однажды и сказал:
– Коли я открою тебе душу свою, ты сгоришь, как от полымя!..
Анну объял ужас. Что сделал ее Павел?
Молиться, молиться!
Так же думал и Тугаев, и они ездили из монастыря в монастырь, и не было ни одного старца, ни одного схимника, у которого не исповедовался бы князь.
– Постой, золотая моя, – говорил он жене, – я к старцу схожу. А ты молись!..
И он шел и каялся в своем страшном грехе.
Слушали его старцы и схимники и в ужасе качали головами, а потом говорили:
– Иди в монастырь, схиму прими – и замаливай грех свой. Велик он зело! Не помогут молитвы без дел!
Он возвращался к жене бледный как смерть и говорил ей:
– Молись, Анна, обо мне!
– Скажи, что на душе у тебя?
Он молчал. Сказать ей – это значит покаяться и идти в монастырь, отречься от нее, от всего того, ради чего он принял такие муки. Это было ему не по силам. Любовь к молодой жене побеждала ужас вечных загробных страданий.
– Что сказать тебе, Аннушка, кроме любви моей к тебе безмерной, – говорил он ей в редкие минуты спокойствия, – ради любви этой пошел бы я на всякие муки.
– Для чего же муки, милый? – со стоном говорила Анна. – Смотри, другие любятся и веселы, и детки есть, а мы… Только изводимся с тобой.
– Ну, ну! Вот я слышал, в Ипатьевском монастыре пресветлый старец Иннокентий есть. Всякий, говорят, грех разрешает. К нему поедем!
Но и старец Иннокентий не отпустил греха Тугаеву.
– О, овца заблудшая…
– Вы заблудшие, а не я!
– Не перебивай речи…
– И слушать вас зазорно!
– Истинно ты бесом обуяна, – с горечью сказал Павел, – ответствуй спроста. По тем служебникам, по которым царь причащается, и благоверная царица, и царевич, и царевны, причащаешься ли ты?
Морозова только усмехнулась.
– Известно, нет! Потому я знаю, что царь по развращенным Никоном изданиям служебников причащается.
– Как же ты об нас всех думаешь? – с гневом вопросил Павел. – Что? Мы все еретики?
– Ясно, что все вы подобны Никону, врагу Божию, который своими ересьми как блевотиной наблевал, а вы теперь его скверненье подлизываете!
– Так ты не Прокофьева дочь, а бесова!
– Я дочь Христова!
– Врешь, бесова! В железа ее!..
Ее ухватили и, спешно заковав в кандалы, надев цепи на шею, повлекли через весь Кремль в подворье Печерского монастыря, где и посадили в яму.
Она же пела и славила Господа.
Княгиню Урусову заточили в Алексеевском монастыре, где ее мучили и терзали старицы, заушая ее, лишая пищи и всячески глумясь над ней за ее упорство.
Терентий страдал и уже не мог скрыть от людей своих страданий. Лицо его осунулось, глаза загорелись лихорадочным блеском.
Царь пытливо посматривал на него и качал головой или хмурился. Прежде Терентий прикрылся бы улыбкой или отвел взгляд. Теперь же он дерзко, вызывающе взглядывал в ответ, словно ожидая опалы и радуясь.
Царь говорил Петру:
– Что брат твой? Никак и он старой веры и за Морозову мне супротивник!
Петр вспыхивал, но не решался сказать правды.
– Не знаю о нем ничего. Сторонится он нас. Одно знаю, что все мы, Теряевы, за тебя готовы животы положить.
– Все ли? – недоверчиво говорил царь и задумывался.
Борьба со староверами все более и более омрачала его, нарушая его тихий покой, расстраивая его веселье, забавы и игры с молодой женой.
IX
Небесная кара
Грех смертоубийства, грех волхвования. И в наше безверное время убийство ближнего считается преступлением и против общества, и против духа. В ту же пору не было ужаснее греха, чем отравление жены мужем или мужа женой; равно и волхвование казалось тяжким преступлением.
Воспитанный в таких традициях, князь Тугаев не мог вынести на своей совести этих страшных грехов.
Они давили и терзали его.
Лицо его потемнело и осунулось, глаза глубоко ушли в орбиты, и взгляд сделался тревожен и пуглив.
– Анна, – говорил он иногда ночью жене своей, – не оставляй меня одного. Не уходи от меня. Мне мерещатся призраки умерших!
Анна трепетала.
– Сокол мой ясный, что с тобой? Какая кручина у тебя? Скажи мне!
Он слабо улыбнулся однажды и сказал:
– Коли я открою тебе душу свою, ты сгоришь, как от полымя!..
Анну объял ужас. Что сделал ее Павел?
Молиться, молиться!
Так же думал и Тугаев, и они ездили из монастыря в монастырь, и не было ни одного старца, ни одного схимника, у которого не исповедовался бы князь.
– Постой, золотая моя, – говорил он жене, – я к старцу схожу. А ты молись!..
И он шел и каялся в своем страшном грехе.
Слушали его старцы и схимники и в ужасе качали головами, а потом говорили:
– Иди в монастырь, схиму прими – и замаливай грех свой. Велик он зело! Не помогут молитвы без дел!
Он возвращался к жене бледный как смерть и говорил ей:
– Молись, Анна, обо мне!
– Скажи, что на душе у тебя?
Он молчал. Сказать ей – это значит покаяться и идти в монастырь, отречься от нее, от всего того, ради чего он принял такие муки. Это было ему не по силам. Любовь к молодой жене побеждала ужас вечных загробных страданий.
– Что сказать тебе, Аннушка, кроме любви моей к тебе безмерной, – говорил он ей в редкие минуты спокойствия, – ради любви этой пошел бы я на всякие муки.
– Для чего же муки, милый? – со стоном говорила Анна. – Смотри, другие любятся и веселы, и детки есть, а мы… Только изводимся с тобой.
– Ну, ну! Вот я слышал, в Ипатьевском монастыре пресветлый старец Иннокентий есть. Всякий, говорят, грех разрешает. К нему поедем!
Но и старец Иннокентий не отпустил греха Тугаеву.