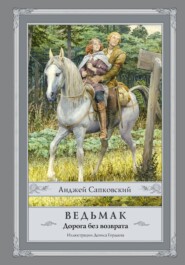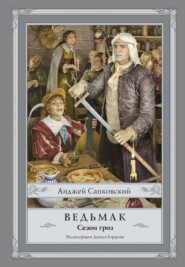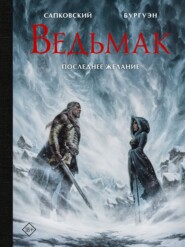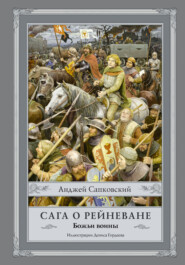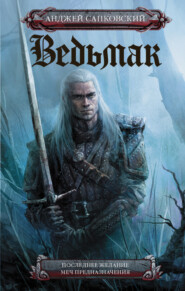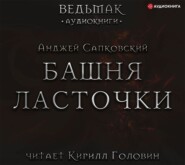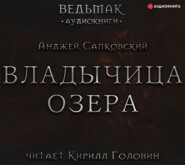По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет вечный
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Золотом я тебя не вылечу. Операция крайне необходима.
– Хрен вам, необходима! – крикнул Пульпан. – Что, заставишь меня? Здесь гейтман я! Я тебя… Я приказываю! Врачуй меня чарами и леками чудодейственными! С ножом не подходи! Только тронь меня, знахарь сраный, – прикажу разорвать лошадьми! Эй, люди! Стража!
– Дальнейшее разрастание карбункула, – Рейневан встал, – грозит очень серьезными последствиями. Говорю тебе это, чтоб ты знал. Остальное – это твое решение, твоя воля, твое желание. Scienti et volenti non fit injuria.[66 - Тому, кто знает и хочет, не на что жаловаться (лат.).]
– Ты мстишь, латинский вышкребок, – прохрипел Пульпан. – За то дело. За прошлый год, за Силезию, за Франкенштейн, за монахов, которых мы тогда прикончили… Я видел, как ты тогда на меня смотрел… С какой ненавистью… Сейчас отыграться хочешь…
Подгейтманы и сотники, которые на крик вошли в избу, смотрели исподлобья на Рейневана. Потом покрутили носами, покашляли.
– Я это… гейтман, не знаю, – пробормотал один. – Но это, так мне кажется, само не пройдет. Надобно бы чего-то с этим делать…
– Зачем мы, – заворчал Ян Плуг, – медика искали и привезли? За зря?
Пульпан застонал, упал на подушки, пот обильно покрыл ему лоб и щеки.
– Не выдержу… – выдохнул он наконец. – Ладно, давай, пускай этот коновал делает, что должен делать… Лишь не оставляйте меня с ним сам на сам, братья, смотрите за его руками и ножиком… Чтоб не зарезал меня, нечестивец, или не обескровил… И горилки мне принесите… Горилки, живо!
– Горилка, – Рейневан засучил рукава, подушечкой пальца проверил острие ножа, – и в самом деле будет нужна. Но для меня. В твоем состоянии, Пульпан, медицина запрещает употребление спиртного.
– Заживление и рубцевание продлится минимум неделю, – поучал Рейневан фельдшера-аптекаря, заканчивая упаковывать сумку. – Все это время больной должен лежать, а за раной нужно ухаживать. Пока не затянется, использовать компрессы.
Аптекарь торопливо покивал головой. С его лица не сходило глуповатое выражения удивления и обожания. Это выражение украсило лицо юноши сразу после того, как Рейневан закончил операцию. И исчезать не собиралось.
Рейневан далек был от того, чтобы заноситься, но стыдиться за операцию ему в самом деле не приходилось. Хотя, принимая во внимание величину карбункула, сечения должны были быть глубокие и сделанные накрест, обезболить же пациента магически при свидетелях он не отважился, операция прошла почти молниеносно. Смил Пульпан успел только вскрикнуть и потерять сознание, тем самым значительно облегчая удаление гноя и обработку раны. Один из наблюдающих сиротских сотников не сдержался и облевался, но остальные наградили ловкость и умелость хирурга полным признания бормотанием, а Ян Плуг под конец даже фамильярно потрепал его по плечу. А аптекарь только вздыхал от удивления. К сожалению, становилось ясно, что ни на что большее с его стороны нельзя было рассчитывать.
– Ты говорил, что перед этим вы применяли припарки. Приготовленные женщинами.
– Так точно, пан медик. Бабы готовили. А накладывала одна такая… Эльжбета Донотек. Позвать?
– Позови.
Эльжбета Донотек, женщина на вид неполных двадцати лет, имела волосы цвета льна и голубые, как у незабудки, глаза. Она была бы необычайно красивой, если бы не обстоятельства. Ибо была она женщиной в гуситских войсках, женщиной переходов, отступлений, побед, поражений, жары, холодов и слякоти. И непрерывного изнуряющего труда. И выглядела, как и все остальные. Одевалась во что попало, лишь бы понадежней, светлые волосы прятала под серым толстым платком, а ладони имела красные от холода и потрескавшиеся от влаги. И при всем этом, о чудо, лучилось от нее что-то, что можно было бы назвать достоинством. Самоуважением. что-то, что просилось на ум и язык как das ewig Weibliche.[67 - вечная женственность (нем.).]
Рейневан пришел к выводу, что фамилию уже он слышал. Но женщину видел впервые.
– Ты делала гейтману компрессы? Из чего?
Эльжбета Донотек подняла на него глаза незабудок.
– Из тертого лука, – ответила она тихо. – И из растолоченых березовых почек…
– Ты что-то понимаешь в лечении? И в зелье?
– Что там понимать… То, что любая баба в селе знает. Да и не помогли ничем те компрессы…
– Неправда, помогли, – возразил он. – Причем много. Теперь снова ему поможешь. После снятия повязки на рану надо будет прикладывать клейстер из семян льна. Хотя сейчас весна, но на болотцах уже должна быть ряска. Делай компрессы из выдавленного сока. Попеременно: раз клейстер, раз ряска.
– Хорошо, паныч Рейневан.
– Ты знаешь меня?
– Слышала, как о вас говорили. Бабы говорили.
– Обо мне?
– Два года тому… – Эльжбета Донотек отвела глаза, но только на минуту. – Во время рейда на Силезию. В городе Злоторыя. В приходской церкви.
– Ну?
– Вы с друзьями не позволили обидеть Богородицу.
– Ах, об этом… – удивился он. – Неужели это происшествие приобрело такую известность?
Она долго смотрела на него. Молчала.
– Это происшествие, – ответила она наконец, медленно выговаривая слова, – произошло. И только это важно.
«Донотек, Эльжбета Донотек», – мысленно повторял он, едучи рысью на север, опять в направлении Гауношовиц.
«что-то болтали о ней, – припоминал он. – какие-то сплетни были».
О женщине, пользующейся большим уважением среди сопровождавших Сироток женщин, о прирожденной предводительнице, с мнением которой считались даже некоторые гуситские гейтманы. Была также, связывал он сплетни, во всем этом какая-то тайна, была любовь и смерть, большая любовь к кому-то погибшему. К кому-то, кого никто уже не заменит, кто оставил по себе только вечную пустоту, вечную скорбь и вечную незавершенность.
«История, как со страниц Кретьена де Труа, – думал он, – как из-под пера Вольфрама фон Эшенбаха». Совсем не соответствующая сермяжному виду ее героини. Совсем не соответствующая. И поэтому, наверное, правдивая.
Ветер от Снежника обдувал ему лицо, несколько сглаживая стыд, который он почувствовал, когда она говорила о происшествии в злоторыйском храме, о деревянной Мадонне. Скульптуре, на защиту которой он, действительно, стал, но не по собственной инициативе, а лишь следуя примеру Самсона Медка. И не ему предназначен был почет за этот случай. И признание в глазах такой личности как Эльжбета Донотек.
За Ганушовицами тракт поворачивал и вел на запад. Все сходилось. От Мендзылеского перевала, как он подсчитал, отделяла его миля с гаком, он надеялся добраться туда до наступления ночи. Пришпорил коня.
Его догнали на десяти конях, окружили, стянули с коня, связали. Протесты ничего не дали. Они ничего не говорили, его, когда он продолжал протестовать и требовать объяснений, утихомирили ударами кулаков. Повезли его назад в лагерь Сироток. Связанного бросили в пустой хлев, ночью он чуть не околел там от холода. Когда звал, никто не реагировал. Утром выволокли, полностью окоченевшего повели, не жалея пинков, на постой главного гейтмана. Там ждал Ян Плуг и несколько других уже знакомых ему сиротских начальников.
Случилось то, что Рейневан предчувствовал. Чего боялся.
Внутри, на лежанке, почти в той самой позе, в какой он оставил его после операции и перевязки, опочивал Смил Пульпан. Только твердый. Абсолютно покойный и тотально мертвый. Лицо, белое, как творог, жутко обезображивали вытаращенные, едва не вылезшие из глазниц глаза. И гримаса губ, скривившихся в еще более жуткую ухмылку.
– Ну, и что ты на это скажешь, медик? – хрипло и враждебно спросил Ян Плуг. – Как нам такую медицину объяснишь? Сможешь объяснить?
Рейневан проглотил слюну, покрутил головой, развел руки. Он приблизился к лежанке с намерением поднять попону, покрывающую труп, но железные руки сотников тут же его осадили.
– Нет, браток! Следы преступления ты бы рад замести, но мы тебе не дадим. Ты его убил и ответишь за это.
– Что с вами? – дернулся Рейневан. – С ума сошли? Какое убийство? Это ж абсурд. Вы же все присутствовали при операции! Жил после нее и хорошо себя чувствовал. Вскрытие карбункула никоим образом не могло вызвать смерть! Позвольте проверить…
– Ты просчитался, колдун, – оборвал его Плуг. – Думал, что сойдет тебе с рук. Но брат Смил очнулся. Кричал, что его жжет в легких и кишках, что боль ему голову разламывает. И перед кончиной обвинил тебя в магии и отравлении.
– Это безумие!
– А я сказал бы, что умно. Ты ненавидел брата Смила, это все знают. Выпала возможность, и отравил горемыку.
– Хрен вам, необходима! – крикнул Пульпан. – Что, заставишь меня? Здесь гейтман я! Я тебя… Я приказываю! Врачуй меня чарами и леками чудодейственными! С ножом не подходи! Только тронь меня, знахарь сраный, – прикажу разорвать лошадьми! Эй, люди! Стража!
– Дальнейшее разрастание карбункула, – Рейневан встал, – грозит очень серьезными последствиями. Говорю тебе это, чтоб ты знал. Остальное – это твое решение, твоя воля, твое желание. Scienti et volenti non fit injuria.[66 - Тому, кто знает и хочет, не на что жаловаться (лат.).]
– Ты мстишь, латинский вышкребок, – прохрипел Пульпан. – За то дело. За прошлый год, за Силезию, за Франкенштейн, за монахов, которых мы тогда прикончили… Я видел, как ты тогда на меня смотрел… С какой ненавистью… Сейчас отыграться хочешь…
Подгейтманы и сотники, которые на крик вошли в избу, смотрели исподлобья на Рейневана. Потом покрутили носами, покашляли.
– Я это… гейтман, не знаю, – пробормотал один. – Но это, так мне кажется, само не пройдет. Надобно бы чего-то с этим делать…
– Зачем мы, – заворчал Ян Плуг, – медика искали и привезли? За зря?
Пульпан застонал, упал на подушки, пот обильно покрыл ему лоб и щеки.
– Не выдержу… – выдохнул он наконец. – Ладно, давай, пускай этот коновал делает, что должен делать… Лишь не оставляйте меня с ним сам на сам, братья, смотрите за его руками и ножиком… Чтоб не зарезал меня, нечестивец, или не обескровил… И горилки мне принесите… Горилки, живо!
– Горилка, – Рейневан засучил рукава, подушечкой пальца проверил острие ножа, – и в самом деле будет нужна. Но для меня. В твоем состоянии, Пульпан, медицина запрещает употребление спиртного.
– Заживление и рубцевание продлится минимум неделю, – поучал Рейневан фельдшера-аптекаря, заканчивая упаковывать сумку. – Все это время больной должен лежать, а за раной нужно ухаживать. Пока не затянется, использовать компрессы.
Аптекарь торопливо покивал головой. С его лица не сходило глуповатое выражения удивления и обожания. Это выражение украсило лицо юноши сразу после того, как Рейневан закончил операцию. И исчезать не собиралось.
Рейневан далек был от того, чтобы заноситься, но стыдиться за операцию ему в самом деле не приходилось. Хотя, принимая во внимание величину карбункула, сечения должны были быть глубокие и сделанные накрест, обезболить же пациента магически при свидетелях он не отважился, операция прошла почти молниеносно. Смил Пульпан успел только вскрикнуть и потерять сознание, тем самым значительно облегчая удаление гноя и обработку раны. Один из наблюдающих сиротских сотников не сдержался и облевался, но остальные наградили ловкость и умелость хирурга полным признания бормотанием, а Ян Плуг под конец даже фамильярно потрепал его по плечу. А аптекарь только вздыхал от удивления. К сожалению, становилось ясно, что ни на что большее с его стороны нельзя было рассчитывать.
– Ты говорил, что перед этим вы применяли припарки. Приготовленные женщинами.
– Так точно, пан медик. Бабы готовили. А накладывала одна такая… Эльжбета Донотек. Позвать?
– Позови.
Эльжбета Донотек, женщина на вид неполных двадцати лет, имела волосы цвета льна и голубые, как у незабудки, глаза. Она была бы необычайно красивой, если бы не обстоятельства. Ибо была она женщиной в гуситских войсках, женщиной переходов, отступлений, побед, поражений, жары, холодов и слякоти. И непрерывного изнуряющего труда. И выглядела, как и все остальные. Одевалась во что попало, лишь бы понадежней, светлые волосы прятала под серым толстым платком, а ладони имела красные от холода и потрескавшиеся от влаги. И при всем этом, о чудо, лучилось от нее что-то, что можно было бы назвать достоинством. Самоуважением. что-то, что просилось на ум и язык как das ewig Weibliche.[67 - вечная женственность (нем.).]
Рейневан пришел к выводу, что фамилию уже он слышал. Но женщину видел впервые.
– Ты делала гейтману компрессы? Из чего?
Эльжбета Донотек подняла на него глаза незабудок.
– Из тертого лука, – ответила она тихо. – И из растолоченых березовых почек…
– Ты что-то понимаешь в лечении? И в зелье?
– Что там понимать… То, что любая баба в селе знает. Да и не помогли ничем те компрессы…
– Неправда, помогли, – возразил он. – Причем много. Теперь снова ему поможешь. После снятия повязки на рану надо будет прикладывать клейстер из семян льна. Хотя сейчас весна, но на болотцах уже должна быть ряска. Делай компрессы из выдавленного сока. Попеременно: раз клейстер, раз ряска.
– Хорошо, паныч Рейневан.
– Ты знаешь меня?
– Слышала, как о вас говорили. Бабы говорили.
– Обо мне?
– Два года тому… – Эльжбета Донотек отвела глаза, но только на минуту. – Во время рейда на Силезию. В городе Злоторыя. В приходской церкви.
– Ну?
– Вы с друзьями не позволили обидеть Богородицу.
– Ах, об этом… – удивился он. – Неужели это происшествие приобрело такую известность?
Она долго смотрела на него. Молчала.
– Это происшествие, – ответила она наконец, медленно выговаривая слова, – произошло. И только это важно.
«Донотек, Эльжбета Донотек», – мысленно повторял он, едучи рысью на север, опять в направлении Гауношовиц.
«что-то болтали о ней, – припоминал он. – какие-то сплетни были».
О женщине, пользующейся большим уважением среди сопровождавших Сироток женщин, о прирожденной предводительнице, с мнением которой считались даже некоторые гуситские гейтманы. Была также, связывал он сплетни, во всем этом какая-то тайна, была любовь и смерть, большая любовь к кому-то погибшему. К кому-то, кого никто уже не заменит, кто оставил по себе только вечную пустоту, вечную скорбь и вечную незавершенность.
«История, как со страниц Кретьена де Труа, – думал он, – как из-под пера Вольфрама фон Эшенбаха». Совсем не соответствующая сермяжному виду ее героини. Совсем не соответствующая. И поэтому, наверное, правдивая.
Ветер от Снежника обдувал ему лицо, несколько сглаживая стыд, который он почувствовал, когда она говорила о происшествии в злоторыйском храме, о деревянной Мадонне. Скульптуре, на защиту которой он, действительно, стал, но не по собственной инициативе, а лишь следуя примеру Самсона Медка. И не ему предназначен был почет за этот случай. И признание в глазах такой личности как Эльжбета Донотек.
За Ганушовицами тракт поворачивал и вел на запад. Все сходилось. От Мендзылеского перевала, как он подсчитал, отделяла его миля с гаком, он надеялся добраться туда до наступления ночи. Пришпорил коня.
Его догнали на десяти конях, окружили, стянули с коня, связали. Протесты ничего не дали. Они ничего не говорили, его, когда он продолжал протестовать и требовать объяснений, утихомирили ударами кулаков. Повезли его назад в лагерь Сироток. Связанного бросили в пустой хлев, ночью он чуть не околел там от холода. Когда звал, никто не реагировал. Утром выволокли, полностью окоченевшего повели, не жалея пинков, на постой главного гейтмана. Там ждал Ян Плуг и несколько других уже знакомых ему сиротских начальников.
Случилось то, что Рейневан предчувствовал. Чего боялся.
Внутри, на лежанке, почти в той самой позе, в какой он оставил его после операции и перевязки, опочивал Смил Пульпан. Только твердый. Абсолютно покойный и тотально мертвый. Лицо, белое, как творог, жутко обезображивали вытаращенные, едва не вылезшие из глазниц глаза. И гримаса губ, скривившихся в еще более жуткую ухмылку.
– Ну, и что ты на это скажешь, медик? – хрипло и враждебно спросил Ян Плуг. – Как нам такую медицину объяснишь? Сможешь объяснить?
Рейневан проглотил слюну, покрутил головой, развел руки. Он приблизился к лежанке с намерением поднять попону, покрывающую труп, но железные руки сотников тут же его осадили.
– Нет, браток! Следы преступления ты бы рад замести, но мы тебе не дадим. Ты его убил и ответишь за это.
– Что с вами? – дернулся Рейневан. – С ума сошли? Какое убийство? Это ж абсурд. Вы же все присутствовали при операции! Жил после нее и хорошо себя чувствовал. Вскрытие карбункула никоим образом не могло вызвать смерть! Позвольте проверить…
– Ты просчитался, колдун, – оборвал его Плуг. – Думал, что сойдет тебе с рук. Но брат Смил очнулся. Кричал, что его жжет в легких и кишках, что боль ему голову разламывает. И перед кончиной обвинил тебя в магии и отравлении.
– Это безумие!
– А я сказал бы, что умно. Ты ненавидел брата Смила, это все знают. Выпала возможность, и отравил горемыку.