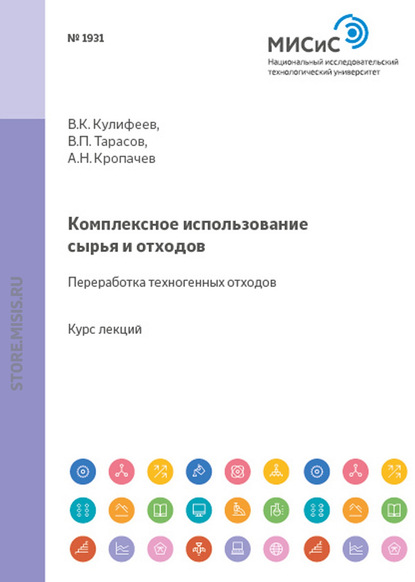По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Марфа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Муравейника-то точно нет. Но холмик растет! С каждым годом больше становится. Откуда я знаю, что там внутри. Начну резать, а вдруг?
И правда – а вдруг?
Иду и думаю, что такое мир сердца.
Растет у тебя на участке холм, уже полметра в высоту вырос. Взрослый мужчина даже копнуть его опасается, а я ни полслова наперекор. Сказать «все равно» – неправда. «Смешно» или «грустно» – неправда. Я думаю: пусть себе растет это странное. И пусть он это обходит. Пусть думает, что лучше не трогать, ведь он уже что-то построил в мыслях, чью-то бытность хранит. Я не стану нарушать его думы, если он ими обогащается.
Все-таки есть тут что-то неземное, хоть и улетели зеленые комары, хоть и тучи конусами раскололись и расползаются. Этот холм, он тоже конусом, такой остроугольный конус из земли с хохолком травы наверху. Смотрю и думаю, что «а вдруг» порой куда интересней, чем взять и срезать. Ведь если срежешь, то станет ясно, что ничего. А так – вдруг. И вот уже у тебя под боком что-то важное.
Дороги вьются среди лесов и полей, пересекаются реки «ничейными» мостиками, по которым машины ползут, огибая рытвины асфальта. До мостка есть хозяин у дороги и после мостка есть, а сам мосток никому не достался и вот, рассыпается на глазах.
– Ничего, найдется и ему хозяин, уже вон сколько мостков разобрали.
Разобрали не на доски, а по рукам. Ограды новые возвели, яркой краской покрасили, и летят мостки через речушки, хвалятся темным молодым асфальтом, новый век отсчитывают.
Вон там, справа, земля выпуклая, да и река вроде приподнятой кажется, стремится вверх всей гладью своей, от берега до берега вздымается над землей в середине, а к берегам подходит осторожно, припадает, чтоб собой не захлестнуть.
Неохватные небеса. А если сойти в близлежащий лесок, то под ногами россыпи ягод. Тут и земляника, и низкая малина. Ягоды у нее некрупные, но такие сладкие, что никак не уйти из леса. Тут можно вообще не двигаться. Протягивай руки и расцвечивай душу свою яркими красками диких ягод.
– Что бы ты делала, если б тут жила? Не замечала бы?
– Не умею не замечать. А вот молилась бы крепче.
– Почему?
– Здесь видно дальше, нужно молиться крепче, чтоб охватить.
Ежевика еще не созрела, смеется зелеными гроздьями, дразнится: уедешь, а я вот она, во всей красе!
И хорошо, расти себе.
Вдоль дороги машины вдувают асфальт в щели. Раньше разбирали битые участки, а теперь не так. По щелям в каждую тонкую канавку и прореху льют новый асфальт тонкой струей, и дорога красуется причудливыми узорами, как шкура невиданного зверя.
Теперь этой дороге долго стоять. А вокруг такая красота, что немеешь.
– Там вон каких особняков настроили на холмах. Или вдоль реки – дворцы, не дома.
– И слава Богу. Сколько красоты краю добавили. Эти дворцы издали видны, смотришь, и сердце радуется.
Немыслимая ширь, неохватный мир. Хорошеет, исправляется земля русская.
– Кот снова просится, он теперь все время просится!
Кто про что, а я про кота. Это наша скотинка домашняя. Лапами скребет об обшитую дверь, до ручки дотягивается: отпусти!
А ведь как приучали, как мучились. Так детей говорить учат, а потом сами не рады, не зная, как на их вопросы отвечать.
Сначала он царапался, топорщился, всеми способами ужас выказывал, но мы с упорством несли его из дома вновь и вновь. И он наконец распознал, что по ту сторону стен тоже есть жизнь. Теперь оставаться внутри ему стало неинтересно, и он, напрягая горло и наши нервы, снова и снова сквозь муки лезет вон, рождается на улицу, в мир внешний.
Кот у нас – обстоятельный меланхолик. Вечно он ходит по зигзагу – хвост влево, нос вправо, длинное туловище волной. Но тут, познав свободу пятнадцати соток, он меняется до неузнаваемости. Посмотреть со стороны – дикий зверь, такая у него горделивая походка, настолько широкая грудь. Ему кажется, он владеет этим миром, он независим, высокомерен и увесист в каждом шаге своем. Но этот холеный увалень даже представить не может, что умеет лазить по деревьям, и что сетчатый забор для него не преграда. Думает, что в полной мере постиг мир. Ходит, гордится.
Вспоминаю жизнь свою, на него глядя. Сколько раз так было – только загордишься, да тут и познаешь забор.
Вдруг – ласточки с криком. Одна, другая, пикируют низко, почти касаются крыльями холки кота. И он пригибается, вжимается в землю, уши поворачивает назад, даже шерсть словно пристает к туловищу, не пушится клубом.
– Смотри, как странно! Ласточки на кота, никогда такого не видели!
– У ласточек сегодня птенцы первый раз вылетели из гнезда! Почти совсем не летают, так, над землей. Вот мать и кружится.
– Вон оно что! Так тут две кружились, над котом. Которая мать?
– А их куда больше, не одна! Тут со всех гнезд матери слетелись, первых птенцов сгонять.
Кот лезет под лавку и сидит там, поджав уши. А на нижних ветках рябины прыгают и трещат птенцы. Они первооткрыватели мира, им внимание и забота. Их матери, видимо, что-то коту сказали, вот он и жмет пузо к земле, вылезти не смеет. Кто решится пойти против материнского гнева?
Смотрю и думаю: где вы, матери российские?
Утро такое ясное, летнее. Призабыв, что кончается июль, радуемся: лето!
Где-то у облепихи стучит дятел. Облепиха эта – три дерева, и все мальчики. Прилетели от старой матушки с соседнего участка, а вскоре она сломалась, распалась на щепки стволом. Мы радуемся, что у нас – мальчики. Ягод облепиховых мы не любим, а деревья выросли быстро. Добавили красоты.
Иду посмотреть, а дятел перелетает и на вишню. Сидит, красуется.
– Ох, до чего ты хорош, такой праздничный, нарядный! – я его хвалю, а меня зовут.
– Поехали, посмотрим, что там с храмом.
Садимся, едем. Это недалеко, дорога без асфальта, тракторами развороченная, сельская. Подъезжаем, иду объявление читать.
«Восстанавливается храм, звонить…» и телефоны местные. Смотрю, а у входа окошки новые, и сколов на стенах нет, почти полностью выровняли. Иду к входу, по ступенькам поднимаюсь.
Двери открылись, навстречу – батюшка. Спрашиваю, отвечает, тоже свой телефон дает. Говорю, мы проездом, сейчас в город. А он войти приглашает.
Храм у реки, небольшая река, но живописная. Перламутром под солнцем светится, по берегу бродят утки, покрякивают.
А в храме от двери до амвона метра три, дальше перегородка и стена, между ними алтарь. Это бывшая колокольня. Иконы скромные, но все чинно, правильно. Только в прошлом году я входила сюда, внутри трава росла, деревца небольшие кривенькие, кусты прорастали из стен. Балки висели с разбитой крыши, птицы гнезда вили, смотрело внутрь горестное небо.
Однажды, рассказывают, кто-то догадался крепкие балки вынуть и к своему двору прибрать. Так убило его первой же. С тех пор сельчане внутрь стен под открытое небо входить боялись.
– А теперь как?
– Отслужили молебен, стали разбирать под реконструкцию. Тихо все, спокойно, храм будто балки сам отдает.
По-хозяйски осматривает молодой иеромонах свое владение.
– Идет народ?
– Пошел. В соседнем селе храм восстановили, там уж и колокольня, и купола. Только людей мало. А у нас ничего нет, зато люди.