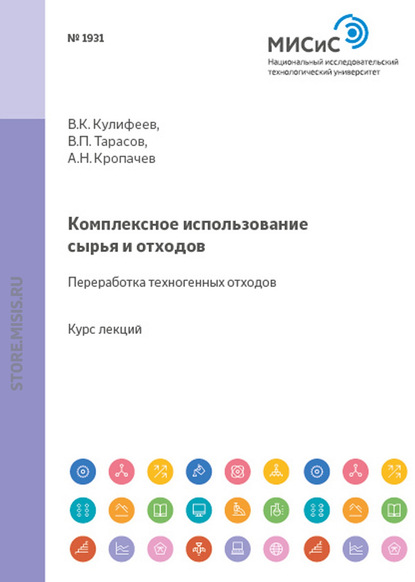По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Марфа
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ты пришел и рассказал, что дождь измочил твои вещи, и ты отнес их в дом на просушку. Не труднее исправить течение разговора, если твой собеседник способен слушать, если он не говорит без умолку, думая, что спасает кого-то от тишины.
– Нет, тот не таков, нам это известно.
– Тогда ты, скорее всего, с моими словами не согласен.
– Отчего не согласен? Я этого не говорил.
– Об этом сказал твой поступок. Я помню, как ты исследовал стремнину, чтобы найти унесенную ею вещь. Ты бросал в нее легкие предметы, и потом следил за их движеньем. Ты был настойчив, и стремнина сдалась, вернув твою пропажу. Если бы, так же как я, ты хотел, чтобы твой собеседник услышал мои слова, течение разговора подчинилось бы тебе.
– Смотри, – внезапно перебил он меня. – Смотри, как садится солнце! Даже дождь наконец сдался! И крыши домов горят, а земля будто всасывает их внутрь, хочет поглотить! Это не солнце уходит за горизонт, это дома людей обращаются в пламя… Так значит, в твоих словах заключалось это?
– Да, именно это стояло за словами, которые ты должен был передать.
– Помню, это звучало похоже: «Чем ниже ты опустишь свечу, тем длиннее пролягут тени»…
– Да, так. И теперь ты сможешь подчинить течение разговора себе, потому что знаешь, о чем говоришь.
– Прости, я просто тебе не поверил. Но теперь я понял.
– Ты ссорился и раздражался. Тебя съедали подозрения и ты искал, как доказать худшие из них. Наконец ты порвал связи, чтобы больше никто не твердил, что существует другая правда.
Мысленно я снова говорю с другом, который теперь далеко, дальше всех остальных.
– Но вот ты узнал, вспоминаю я, что смертельно болен, и кто-то научил тебя: нужно попросить прощения и самому простить. Ты мучился в приготовлениях, голову твою сжимали спазмы, когда ты представлял себя произносящим «прости».
Заставить звучать слово, порой и это – работа.
Ты торговался и вымаливал разрешение простить, ничего не делая, только представляя себе, что эти слова уже произнесены. Тебе шли на уступки, объясняли: главное, простить в душе, слова не так уж важны. И ты принимал новые условия игры.
Но болезнь ускоряла темп.
– Смотри, какая большая птица! – отвлекают меня от мысленной беседы.
– Это ястреб. Он парит над полем, караулит добычу.
– А сюда прилететь он не может?
– Эти птицы умны и не ссорятся с нами. Они всегда поодаль, но голода нет, и люди не целятся в них, а они не летят к домам.
– Сегодня ласточки низко.
– А знаешь, почему? Из-за мошек. У мошек крылья перед дождем тяжелые, их тянет к земле. Вот ласточки за ними и спускаются ниже.
– Что это у мошек с крыльями?
– Крылья впитывают влагу дождя.
– Так его еще нет!
– Перед приходом он посылает земле свое дыханье, и земля чует его будущую влагу.
– Получается, мошки умнее, чем птицы, раз первыми дождь чуют.
Да, думаю, но молчу. Порой тех, кто знает, съедают раньше.
И снова в мыслях я остаюсь одна с моим другом. С тем, который ушел дальше всех.
– Кому ты служил? – спрашиваю его я. – Ради чего отказался ты от друзей, во имя какой идеи прошел по головам? Помнишь, как мысленно тебе виделось, будто ты подходишь к тому, с кем в смертельной ссоре? Ты опускаешь свою руку ему на плечо, но лицо у тебя кривится от выброса желчи. «Прости», – говоришь ты хрупкому образу и понимаешь, что хотел бы еще раз убить того, кого представил себе.
Это случилось или там, за спиной, мираж? Ты убедил себя в том, с чем тебе легче жилось. Как признаться себе, что эта кровь, которую ты своими поступками пролил, была в спасенье? Где взять сил, чтобы простить главного обидчика – себя?
Это ад. Тот, другой, ненавидим, но он прощен и оправдан. И только себе ты не в силах простить раздора. Стыд выжигает твои глаза, и они отказываются видеть выход. Разве можно с обожженными глазами стремиться к свету? Нет, а у твоей души не осталось слез.
Они сказали тебе: «Прости себя», и твое горло разучилось глотать. Потому что ты так был воспитан, тебя с детства учили, что говорить о себе плохо – недопустимо.
– Я глупец! – сказал ты однажды и получил пощечину от отца.
– Не смей говорить о себе так! – отец был суров. – В нашем роду все умны!
С тех пор каждый свой шаг ты объяснял именно этим. Ты не слушал ничьих слов, отец оставался главным.
И вот тебе предстояло решить, кому сохранить верность. Но ты умер, потому что не смог выбрать между смертью и смертью.
И теперь, из смерти своей, ты слышишь мои слова. Теперь ты меня слышишь.
Ночью, когда младшие уже давно спят, наши взрослые дети все еще шепчутся, насмешничают, лениво играют друг с другом. Комната одна, но все они там разместились, да вот еще надули матрац, расстелили посредине и не оставили свободного места.
– Как теперь выходить, если что?
– Если что, смело падай.
Хихикают. Их проверяет кот, пересчитывает, все ли на месте. Смеются громче, наверное, кот сбился и пошел по второму кругу.
Зовут меня, скребутся в картонную перегородку. Она до потолка не доходит, чтобы свободно ходило тепло от печки.
– А этот Старец, он правда тут был?
– В каждом месте земли был свой Старец.
– Как везде кто-то родился? Как везде кто-то умер?
Летучие ночи не держатся стаей. Ночь всегда летит в одиночестве, разметая потоки дыханий в ней спящих. Каждое дыхание слышу и различаю.
Один, засыпая:
– Скажи, что важнее любви?
– Мир сердца.