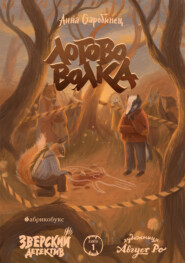По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Резкое похолодание. Зимняя книга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она снова положила вещи в чемодан. Я вытащил их. Она положила…
– На что? – Я вытряхнул их, прямо на пол. – Что я потащусь за тобой неизвестно куда? Вот так вот все оставлю и уеду? Только потому, что тебе так захотелось, ты, пигалица?
Она молча наклонилась, подобрала с пола свои вещи. Снова сложила их в чемодан. Совершенно автоматически, даже не глядя. По ее лицу, по безразлично-умиротворенному его выражению было ясно, что она готова перекладывать эти чертовы тряпки сколь угодно долго. Это ее даже не раздражало – ей было попросту безразлично, сколько времени она убьет на этот чемодан. Я понял – а она, вероятно, с самого начала понимала, – что я все равно сдамся первым. Так что я оставил ее в покое – ха, я даже помог ей как следует утрамбовать вещи, чтобы легче было застегнуть молнию, – и ушел на кухню. Я сидел, грыз печенье и думал: когда она зайдет и позовет меня, я откажусь. Просто откажусь. И тогда она останется – все очень просто. Без меня она не уйдет. Не посмеет.
Я сидел, грыз печенье, и каждое движение челюстей болью отдавалось в ушах, в глазницах, в затылке, в висках. И вся кожа на лице саднила. Но я терпел – я уже знал, что это такое.
Я сидел, грыз печенье, терпел и думал: надо же, как быстро я начал меняться.
А еще я думал, что это очень несправедливо: мне ведь так хотелось бы смотреть на себя в зеркало, наблюдать за всеми метаморфозами… Только вот – зеркала-то завешены. Такие порядки…
И еще я думал… словом, сидел и думал о том о сем.
А когда она стала перетаскивать свои пожитки в коридор – сумка, еще сумка, чемодан, пакет, рюкзачок, – я вдруг с ужасной отчетливостью понял, что она… она ведь не собирается никуда меня звать. Она хочет оставить меня здесь одного. Меня, у которого уже начало болеть лицо… Меня, с которым она должна делить этот дом! Она сейчас просто откроет дверь – и уйдет. И все.
Когда она вернулась в комнату за очередной сумкой, я быстро прошмыгнул в коридор, вытащил из-под стойки для обуви свой запасной ключ (эта дура почти всегда оставляла дверь незапертой – так что я обычно запирал сам), вставил его в замок и повернул на два оборота. Потом закинул ключ обратно под стойку – он громко звякнул, но она не услышала… Потом – ее шаги уже приближались – я вдруг сообразил, что это совершенно бессмысленно – у нее-то ведь есть еще один ключ!..
Она тем временем притащила свою сумку и явно собралась уходить. Взялась за ручку двери. Подергала…
Я притаился у нее за спиной.
Дверь не поддалась. Она – как всегда, нисколько не удивившись, – полезла в карман и вытащила свой ключ. Тогда я толкнул ее под локоть – довольно сильно, она даже слегка вскрикнула, но опять же не удивилась.
Ключ выпал, и я поймал его на лету. Очень ловко.
Потом она долго ползала у двери, искала. Она была уверена, что просто его уронила. Тот факт, что при падении ключ не звякнул о паркет, нимало ее не смущал… Когда ей надоело там ползать, она вытащила из кармана свой маленький телефон, нажала на кнопочку…
А на что я рассчитывал? Даже не знаю. Нет, ну на что? Неужели я думал, что, потеряв ключ, она послушно разберет вещи и скажет себе: «Ладно, раз дверь не открывается, останусь-ка я здесь, пожалуй, навсегда…»? Или я полагал, что, если задержу ее, она передумает?…
– При-и-ве-е-т, слушай, прикинь, я тут уже одетая, а у меня ключ… Что?.. Да видела я, что ты уже стоишь… Так я как раз и не могу выйти! Говорю же – у меня ключ куда-то завалился! Да! А у тебя с собой, который я тебе давала? Угу, поднимешься тогда?
Он, конечно, поднялся. Открыл дверь снаружи. На нем была дурацкая шерстяная шапка. Он поцеловал ее в губы. Они взяли сумки и вышли. Закрыли за собой дверь. А я остался один. Внутри.
Я должен был остаться. Я знал, что мое место здесь – по эту сторону двери…
Но когда она ушла, мне стало вдруг так тоскливо; нет, «тоскливо» – не совсем то слово… Мне показалось, что я попросту исчезну, сгину, перестану существовать, если останусь один. Мне показалось, что я растворюсь в воздухе, как призрак, что я стану пылью на мебели, стану ничем – если останусь в доме, куда больше не будет каждый день возвращаться она. К тому же у меня так сильно болело лицо – из-за нее, для нее…
И я открыл дверь. И я побежал за ней – хотя она меня не звала. Я выскочил в заснеженный переулок, в холодный белый воздух, зажмурившись и затаив дыхание, чтобы не впускать в себя эту мертвую белизну… И я догнал ее, и я запрыгнул за ней в машину, как глупая дворняга, испугавшаяся, что ее навсегда оставят одну в будке. И я поехал с ней. Господи, какой стыд…
Водил он ужасно, этот ее При-и-ве-е-т. Нервно и вместе с тем сонно, так что машина двигалась какими-то странными рывками, а на светофорах подрагивала в эпилептических конвульсиях. Я даже толком не помню, как мы добрались до его дома: не было сил следить за дорогой. От запаха бензина и курева меня укачивало. Лицо болело почти нестерпимо. Хуже, чем в прошлый раз. Оно и понятно: в прошлый-то раз изменения были не такими значительными…
Дом был некрасивый. Грязно-розовый, пятиэтажный, убогий, он походил на коробку из-под дешевой дамской обуви. В подъезде остро воняло мочой – собачьей, кошачьей, мышиной, крысиной, почему-то еще хорьковой (или, возможно, барсуковой – в таком «букете» и не разберешь; но в любом случае – откуда здесь?), человеческой и даже, о господи… и даже нашей.
Мы поднялись на четвертый этаж (куцые заплеванные лестничные пролеты, низкие потолки), он позвонил в дверь. Открыла пышногрудая конопатая девка с маленьким ребенком на руках. За спиной у девки маячил здоровенный амбал – один из тех двоих, что выносили из нашего дома тело старика.
– При-и-ве-е-т, – сказала конопатая, почти так же нелепо растягивая гласные, как это любила делать моя.
– Здрас-сьте, – радостно отозвалась моя, – и мы вошли.
Пахло вареными сосисками и гречневой кашей. В прихожей было невероятно тесно – вернее, прихожей как таковой вообще не существовало. Казалось, что с лестничной площадки мы шагнули в небольшой шкаф, до отказа набитый зимней одеждой и обувью, а потом из шкафа – сразу в комнату.
Впрочем, комнату я разглядеть не успел. Кто-то налетел на меня сзади, обхватил за шею и повалил на пол, а потом ударил чем-то тяжелым по голове.
…Я увидел болота – множество крупных луж, вытянутых в мутную, гнойно-зеленую вереницу. Я смотрел на них чуть сверху, с высоты предгрозового птичьего полета. Смотрел сквозь рваные хлопья вонючего пара, который с какой-то омерзительной быстротой изменял свои очертания, – то ловко обвивался вокруг длинных, зачарованно-неподвижных камышей хищными кольцами, то вдруг рассыпался бессильной трухой, то липко заволакивал всю поверхность болот плотной дрожащей пленкой.
Вдоль болот, по склизким, сочно-зеленым берегам бродили козы. Множество диких коз… Их копыта были перепачканы студенисто-зеленым, обмотаны влажными нитями тины. Их безнадежное беканье скучно сливалось с невидимым жабьим хором. В стороне, у самой кромки неподвижной тинистой воды, виднелся скособоченный деревянный дом; чуть поодаль – еще один. Я знал, что есть здесь и другие дома, но они исчезли в открытой утробе тумана, пожравшего небо и горизонт.
Я знал, что это за место.
…Козьи Болота.
Я увидел их отчего-то не такими, как представлял в детстве; не теми, что пузырились в моих снах после тихих вечерних рассказов бабушки. Те далекие болота моих детских фантазий были подвижными, яркими и сказочно-зелеными, чуть не бирюзовыми. Они представлялись мне то безобидно-уютными, добрыми приставучей старушечьей добротой, то, напротив, жестокими и коварными, грозящими засосать в свое холодное тягучее нутро зазевавшегося путника или усталую птицу.
Они представлялись мне какими угодно, но такими, как эти, – никогда. Эти были попросту равнодушными; от них тянуло гнилью и смертной тоской. Но отчего-то казалось (память предков?), что именно эти, явившиеся мне во взрослом мороке, куда правдивее тех, манивших в ребяческих снах.
Манили они и теперь – настойчиво и спокойно. Край моих предков тянул меня назад, ровно и холодно выкликал обратно из самовольной отлучки, приказывал вернуться в тот дом, которому я принадлежал, на ту улицу, что когда-то была Козьим Болотом.
Если б я мог закрыть глаза, я бы их закрыл. Если бы знал, как отвернуться, – отвернулся бы. Но не в моих силах было сделать ни то, ни другое, поэтому я просто смотрел и смотрел, смотрел и смотрел на неподвижную воду и унылых серых коз в унылом сером тумане… И больше всего мне хотелось умереть – умереть, чтобы только не родиться здесь много веков спустя, никогда не родиться в этом стылом, в этом гиблом месте, пусть даже за эти века оно полностью преобразится, пусть даже оно станет таким, каким я знаю его теперь, – нарядной улицей в историческом центре столицы…
Я застонал, пытаясь очнуться, и мне это почти удалось… Почти. Видение рассыпалось, оставив после себя плотную пустоту, – но эта пустота никак не хотела меня выпускать.
Через некоторое время я увидел старика. Но опять же не таким…
Не таким, каким я запомнил его в последний раз, когда его уносили: безвольным, холодным куском плоти, смиренно приемлющим все и вся, с горбатым и огромным, в пол-лица, носом, с тонкими синюшными губами, интеллигентно поджатыми, навсегда застывшими в этакой умеренно-брезгливой гримаске, точно ему неприятно что-то, происходящее в нем, но неловко в этом признаться; точно он приготовился просто вежливо переждать долгий процесс распада – до конца, до полного исчезновения, до чудесного перерождения материи… И не таким, каким я хотел бы его всегда помнить: молодым, самоуверенным, наглым, носатым, властным; весело колдующим над своими колбами и пробирками; ужасным своим куриным почерком заносящим в блокнот формулы; творящим науку. В ту пору его еще звали Львом (это потом имя исчезло, потому что некому стало произносить его вслух, и Лев превратился в старика)…
Но нет. Я увидел его почему-то таким, каким он был незадолго до смерти – когда уже назывался «не жилец», но все еще жил. Таким он выплыл ко мне из пустоты – и теперь стоял, слегка покачиваясь, в этой пустоте, растерянно озирался и близоруко щурил свои мутные глаза. Когда-то они были умными и светло-карими, эти глаза, с ярким зеленым отливом. Но с годами потускнели, сделались неопределенно-болотными, цвета истертого домашнего ковра, и утратили всякое выражение; его глаза умерли на несколько лет раньше, чем он сам.
– На работу пора, в академию… – пробормотал старик и по-птичьи моргнул. – В академию, на работу… где мои часы, не поспею… Валюша, где часы, потерял…
Он нелепо засуетился в своем пустом белом облаке. Подтянул штаны – неизменные тренировочные штаны с оттянутыми коленями, с нелепо топорщащимся пузырем на заду, с темным влажным пятном на причинном месте; в них он ходил весь последний год и ни за что не хотел отдавать в стирку, приходилось их у него тихонько выкрадывать, пока он спал.
– Где часы, я опаздываю, Валюша, где часы, они ж именные, где… – снова занудил старик.
Все это я уже слышал много раз – и все же мне стало его жалко, как всегда.
За год до смерти старик впал в беспросветное слабоумие, перестал узнавать людей и ориентироваться во времени. Ему казалось, что он снова молод… И пока окончательно не слег, почти каждый день он вскакивал с постели в пять утра и принимался собираться на работу в Академию наук. Топтался вокруг кровати в своих оттопыренных штанах, «не поспевал», очень нервничал. Бедняга – всю жизнь у него был принцип; никогда и никого не заставлять себя ждать. И вот теперь он кого-то страшно задерживал, давно уже куда-то опаздывал и сквозь старческий бред, сквозь фальшивую свою вторую молодость чувствовал это – только все никак не мог разобраться, куда же пора ему уходить. Вот и собирался, по привычке, в свою академию, и искал давно поломанные часы («Льву Николаевичу – за львиный вклад в науку»), и звал давно покойную жену – доверчиво и счастливо позабыв о том, что сделала она ему и, главное, что сделал с ней он.
– Валюша, ты где, я на работу опаздываю, куда же ты делась… – испуганно бормотал старик.
И, превозмогая жалость, я ответил ему:
– Ее больше нет. И тебя больше нет. – И от звука моего голоса белая пустота дрогнула и рассыпалась…
…Очнулся я на лестничной клетке (где меня заботливо уложили лицом вниз на зассанный кафель) от холода – и тут же почувствовал у себя на затылке чей-то пристальный взгляд. Кроме того, там же, в районе затылка, ощущалась пульсирующая боль и какая-то странная щекотка – как будто из головы моей вылезали, один за другим, маленькие теплые слизни, а потом скатывались, точно с ледяной горки, мне на шею. Все еще лежа на животе и стараясь шевелиться как можно меньше, я осторожно провел рукой по волосам. Они были мокрыми и липкими: кровь… Слизняков на голове не обнаружилось – зато обнаружилась очень неприятная шишка, на ощупь напоминавшая большую полуочищенную картофелину.
Он стоял надо мной.
Я медленно повернулся на бок, потом, поборов тошноту, сел и только тогда взглянул на него. Мне очень захотелось кричать. Но я сдержался.
– На что? – Я вытряхнул их, прямо на пол. – Что я потащусь за тобой неизвестно куда? Вот так вот все оставлю и уеду? Только потому, что тебе так захотелось, ты, пигалица?
Она молча наклонилась, подобрала с пола свои вещи. Снова сложила их в чемодан. Совершенно автоматически, даже не глядя. По ее лицу, по безразлично-умиротворенному его выражению было ясно, что она готова перекладывать эти чертовы тряпки сколь угодно долго. Это ее даже не раздражало – ей было попросту безразлично, сколько времени она убьет на этот чемодан. Я понял – а она, вероятно, с самого начала понимала, – что я все равно сдамся первым. Так что я оставил ее в покое – ха, я даже помог ей как следует утрамбовать вещи, чтобы легче было застегнуть молнию, – и ушел на кухню. Я сидел, грыз печенье и думал: когда она зайдет и позовет меня, я откажусь. Просто откажусь. И тогда она останется – все очень просто. Без меня она не уйдет. Не посмеет.
Я сидел, грыз печенье, и каждое движение челюстей болью отдавалось в ушах, в глазницах, в затылке, в висках. И вся кожа на лице саднила. Но я терпел – я уже знал, что это такое.
Я сидел, грыз печенье, терпел и думал: надо же, как быстро я начал меняться.
А еще я думал, что это очень несправедливо: мне ведь так хотелось бы смотреть на себя в зеркало, наблюдать за всеми метаморфозами… Только вот – зеркала-то завешены. Такие порядки…
И еще я думал… словом, сидел и думал о том о сем.
А когда она стала перетаскивать свои пожитки в коридор – сумка, еще сумка, чемодан, пакет, рюкзачок, – я вдруг с ужасной отчетливостью понял, что она… она ведь не собирается никуда меня звать. Она хочет оставить меня здесь одного. Меня, у которого уже начало болеть лицо… Меня, с которым она должна делить этот дом! Она сейчас просто откроет дверь – и уйдет. И все.
Когда она вернулась в комнату за очередной сумкой, я быстро прошмыгнул в коридор, вытащил из-под стойки для обуви свой запасной ключ (эта дура почти всегда оставляла дверь незапертой – так что я обычно запирал сам), вставил его в замок и повернул на два оборота. Потом закинул ключ обратно под стойку – он громко звякнул, но она не услышала… Потом – ее шаги уже приближались – я вдруг сообразил, что это совершенно бессмысленно – у нее-то ведь есть еще один ключ!..
Она тем временем притащила свою сумку и явно собралась уходить. Взялась за ручку двери. Подергала…
Я притаился у нее за спиной.
Дверь не поддалась. Она – как всегда, нисколько не удивившись, – полезла в карман и вытащила свой ключ. Тогда я толкнул ее под локоть – довольно сильно, она даже слегка вскрикнула, но опять же не удивилась.
Ключ выпал, и я поймал его на лету. Очень ловко.
Потом она долго ползала у двери, искала. Она была уверена, что просто его уронила. Тот факт, что при падении ключ не звякнул о паркет, нимало ее не смущал… Когда ей надоело там ползать, она вытащила из кармана свой маленький телефон, нажала на кнопочку…
А на что я рассчитывал? Даже не знаю. Нет, ну на что? Неужели я думал, что, потеряв ключ, она послушно разберет вещи и скажет себе: «Ладно, раз дверь не открывается, останусь-ка я здесь, пожалуй, навсегда…»? Или я полагал, что, если задержу ее, она передумает?…
– При-и-ве-е-т, слушай, прикинь, я тут уже одетая, а у меня ключ… Что?.. Да видела я, что ты уже стоишь… Так я как раз и не могу выйти! Говорю же – у меня ключ куда-то завалился! Да! А у тебя с собой, который я тебе давала? Угу, поднимешься тогда?
Он, конечно, поднялся. Открыл дверь снаружи. На нем была дурацкая шерстяная шапка. Он поцеловал ее в губы. Они взяли сумки и вышли. Закрыли за собой дверь. А я остался один. Внутри.
Я должен был остаться. Я знал, что мое место здесь – по эту сторону двери…
Но когда она ушла, мне стало вдруг так тоскливо; нет, «тоскливо» – не совсем то слово… Мне показалось, что я попросту исчезну, сгину, перестану существовать, если останусь один. Мне показалось, что я растворюсь в воздухе, как призрак, что я стану пылью на мебели, стану ничем – если останусь в доме, куда больше не будет каждый день возвращаться она. К тому же у меня так сильно болело лицо – из-за нее, для нее…
И я открыл дверь. И я побежал за ней – хотя она меня не звала. Я выскочил в заснеженный переулок, в холодный белый воздух, зажмурившись и затаив дыхание, чтобы не впускать в себя эту мертвую белизну… И я догнал ее, и я запрыгнул за ней в машину, как глупая дворняга, испугавшаяся, что ее навсегда оставят одну в будке. И я поехал с ней. Господи, какой стыд…
Водил он ужасно, этот ее При-и-ве-е-т. Нервно и вместе с тем сонно, так что машина двигалась какими-то странными рывками, а на светофорах подрагивала в эпилептических конвульсиях. Я даже толком не помню, как мы добрались до его дома: не было сил следить за дорогой. От запаха бензина и курева меня укачивало. Лицо болело почти нестерпимо. Хуже, чем в прошлый раз. Оно и понятно: в прошлый-то раз изменения были не такими значительными…
Дом был некрасивый. Грязно-розовый, пятиэтажный, убогий, он походил на коробку из-под дешевой дамской обуви. В подъезде остро воняло мочой – собачьей, кошачьей, мышиной, крысиной, почему-то еще хорьковой (или, возможно, барсуковой – в таком «букете» и не разберешь; но в любом случае – откуда здесь?), человеческой и даже, о господи… и даже нашей.
Мы поднялись на четвертый этаж (куцые заплеванные лестничные пролеты, низкие потолки), он позвонил в дверь. Открыла пышногрудая конопатая девка с маленьким ребенком на руках. За спиной у девки маячил здоровенный амбал – один из тех двоих, что выносили из нашего дома тело старика.
– При-и-ве-е-т, – сказала конопатая, почти так же нелепо растягивая гласные, как это любила делать моя.
– Здрас-сьте, – радостно отозвалась моя, – и мы вошли.
Пахло вареными сосисками и гречневой кашей. В прихожей было невероятно тесно – вернее, прихожей как таковой вообще не существовало. Казалось, что с лестничной площадки мы шагнули в небольшой шкаф, до отказа набитый зимней одеждой и обувью, а потом из шкафа – сразу в комнату.
Впрочем, комнату я разглядеть не успел. Кто-то налетел на меня сзади, обхватил за шею и повалил на пол, а потом ударил чем-то тяжелым по голове.
…Я увидел болота – множество крупных луж, вытянутых в мутную, гнойно-зеленую вереницу. Я смотрел на них чуть сверху, с высоты предгрозового птичьего полета. Смотрел сквозь рваные хлопья вонючего пара, который с какой-то омерзительной быстротой изменял свои очертания, – то ловко обвивался вокруг длинных, зачарованно-неподвижных камышей хищными кольцами, то вдруг рассыпался бессильной трухой, то липко заволакивал всю поверхность болот плотной дрожащей пленкой.
Вдоль болот, по склизким, сочно-зеленым берегам бродили козы. Множество диких коз… Их копыта были перепачканы студенисто-зеленым, обмотаны влажными нитями тины. Их безнадежное беканье скучно сливалось с невидимым жабьим хором. В стороне, у самой кромки неподвижной тинистой воды, виднелся скособоченный деревянный дом; чуть поодаль – еще один. Я знал, что есть здесь и другие дома, но они исчезли в открытой утробе тумана, пожравшего небо и горизонт.
Я знал, что это за место.
…Козьи Болота.
Я увидел их отчего-то не такими, как представлял в детстве; не теми, что пузырились в моих снах после тихих вечерних рассказов бабушки. Те далекие болота моих детских фантазий были подвижными, яркими и сказочно-зелеными, чуть не бирюзовыми. Они представлялись мне то безобидно-уютными, добрыми приставучей старушечьей добротой, то, напротив, жестокими и коварными, грозящими засосать в свое холодное тягучее нутро зазевавшегося путника или усталую птицу.
Они представлялись мне какими угодно, но такими, как эти, – никогда. Эти были попросту равнодушными; от них тянуло гнилью и смертной тоской. Но отчего-то казалось (память предков?), что именно эти, явившиеся мне во взрослом мороке, куда правдивее тех, манивших в ребяческих снах.
Манили они и теперь – настойчиво и спокойно. Край моих предков тянул меня назад, ровно и холодно выкликал обратно из самовольной отлучки, приказывал вернуться в тот дом, которому я принадлежал, на ту улицу, что когда-то была Козьим Болотом.
Если б я мог закрыть глаза, я бы их закрыл. Если бы знал, как отвернуться, – отвернулся бы. Но не в моих силах было сделать ни то, ни другое, поэтому я просто смотрел и смотрел, смотрел и смотрел на неподвижную воду и унылых серых коз в унылом сером тумане… И больше всего мне хотелось умереть – умереть, чтобы только не родиться здесь много веков спустя, никогда не родиться в этом стылом, в этом гиблом месте, пусть даже за эти века оно полностью преобразится, пусть даже оно станет таким, каким я знаю его теперь, – нарядной улицей в историческом центре столицы…
Я застонал, пытаясь очнуться, и мне это почти удалось… Почти. Видение рассыпалось, оставив после себя плотную пустоту, – но эта пустота никак не хотела меня выпускать.
Через некоторое время я увидел старика. Но опять же не таким…
Не таким, каким я запомнил его в последний раз, когда его уносили: безвольным, холодным куском плоти, смиренно приемлющим все и вся, с горбатым и огромным, в пол-лица, носом, с тонкими синюшными губами, интеллигентно поджатыми, навсегда застывшими в этакой умеренно-брезгливой гримаске, точно ему неприятно что-то, происходящее в нем, но неловко в этом признаться; точно он приготовился просто вежливо переждать долгий процесс распада – до конца, до полного исчезновения, до чудесного перерождения материи… И не таким, каким я хотел бы его всегда помнить: молодым, самоуверенным, наглым, носатым, властным; весело колдующим над своими колбами и пробирками; ужасным своим куриным почерком заносящим в блокнот формулы; творящим науку. В ту пору его еще звали Львом (это потом имя исчезло, потому что некому стало произносить его вслух, и Лев превратился в старика)…
Но нет. Я увидел его почему-то таким, каким он был незадолго до смерти – когда уже назывался «не жилец», но все еще жил. Таким он выплыл ко мне из пустоты – и теперь стоял, слегка покачиваясь, в этой пустоте, растерянно озирался и близоруко щурил свои мутные глаза. Когда-то они были умными и светло-карими, эти глаза, с ярким зеленым отливом. Но с годами потускнели, сделались неопределенно-болотными, цвета истертого домашнего ковра, и утратили всякое выражение; его глаза умерли на несколько лет раньше, чем он сам.
– На работу пора, в академию… – пробормотал старик и по-птичьи моргнул. – В академию, на работу… где мои часы, не поспею… Валюша, где часы, потерял…
Он нелепо засуетился в своем пустом белом облаке. Подтянул штаны – неизменные тренировочные штаны с оттянутыми коленями, с нелепо топорщащимся пузырем на заду, с темным влажным пятном на причинном месте; в них он ходил весь последний год и ни за что не хотел отдавать в стирку, приходилось их у него тихонько выкрадывать, пока он спал.
– Где часы, я опаздываю, Валюша, где часы, они ж именные, где… – снова занудил старик.
Все это я уже слышал много раз – и все же мне стало его жалко, как всегда.
За год до смерти старик впал в беспросветное слабоумие, перестал узнавать людей и ориентироваться во времени. Ему казалось, что он снова молод… И пока окончательно не слег, почти каждый день он вскакивал с постели в пять утра и принимался собираться на работу в Академию наук. Топтался вокруг кровати в своих оттопыренных штанах, «не поспевал», очень нервничал. Бедняга – всю жизнь у него был принцип; никогда и никого не заставлять себя ждать. И вот теперь он кого-то страшно задерживал, давно уже куда-то опаздывал и сквозь старческий бред, сквозь фальшивую свою вторую молодость чувствовал это – только все никак не мог разобраться, куда же пора ему уходить. Вот и собирался, по привычке, в свою академию, и искал давно поломанные часы («Льву Николаевичу – за львиный вклад в науку»), и звал давно покойную жену – доверчиво и счастливо позабыв о том, что сделала она ему и, главное, что сделал с ней он.
– Валюша, ты где, я на работу опаздываю, куда же ты делась… – испуганно бормотал старик.
И, превозмогая жалость, я ответил ему:
– Ее больше нет. И тебя больше нет. – И от звука моего голоса белая пустота дрогнула и рассыпалась…
…Очнулся я на лестничной клетке (где меня заботливо уложили лицом вниз на зассанный кафель) от холода – и тут же почувствовал у себя на затылке чей-то пристальный взгляд. Кроме того, там же, в районе затылка, ощущалась пульсирующая боль и какая-то странная щекотка – как будто из головы моей вылезали, один за другим, маленькие теплые слизни, а потом скатывались, точно с ледяной горки, мне на шею. Все еще лежа на животе и стараясь шевелиться как можно меньше, я осторожно провел рукой по волосам. Они были мокрыми и липкими: кровь… Слизняков на голове не обнаружилось – зато обнаружилась очень неприятная шишка, на ощупь напоминавшая большую полуочищенную картофелину.
Он стоял надо мной.
Я медленно повернулся на бок, потом, поборов тошноту, сел и только тогда взглянул на него. Мне очень захотелось кричать. Но я сдержался.