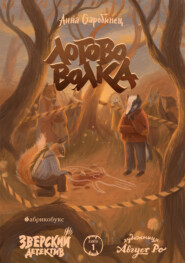По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Резкое похолодание. Зимняя книга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Резкое похолодание. Зимняя книга
Анна Альфредовна Старобинец
Лучший фантаст Европы
В повестях и рассказах Анны Старобинец обыкновенная жизнь совершенно обыкновенных людей неожиданно поворачивается к читателю своей мистической пугающей изнанкой. Параллельные миры, страшные тайны, домовые – все переплетено и оставляет ощущение какой-то недосказанности. Анну Старобинец смело можно назвать отечественным Стивеном Кингом.
Анна Старобинец
Резкое похолодание. Зимняя книга
© А. Старобинец, 2020
© Д. Филатов, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Домосед
Саше, который спас кота
Старик умирал так долго и обстоятельно, с таким усердием и какой-то даже дотошностью, что под конец я и сам стал чувствовать себя неважно, стоило мне только взглянуть в его сторону.
Девчонка ухаживала за ним плохо (впрочем, какая девчонка – давно уже за двадцать!). Она спала до полудня – хотя старик всегда просыпался на рассвете и ему сразу же нужно было принять лекарство… Она нерегулярно меняла ему постельное белье, кормила старика всегда впопыхах, на бегу, не давая толком прожевать… В комнате у него никогда надолго не задерживалась, говорила быстро, отрывисто и раздраженно – и в каждом ее жесте, в каждом движении и взгляде ясно читалось: ну, скорее же, скорей, сколько можно! Жуй быстрей, пей быстрей, умирай быстрей, не задерживай меня, не задерживай – тебе ведь уже больше ста лет, тебе пора…
Она часами металась по дому, молодая, ароматная и неряшливая, в поисках какой-нибудь своей нелепой шмотки (я, признаться, иногда прятал ее одежду – самую безвкусную, в которой, по-моему, на людях показываться стыдно), и долго встряхивала перед зеркалом влажными свежевымытыми волосами, и раз за разом снимала и надевала, швыряла и комкала, поднимала и прикладывала, и тихо шептала свои женские заклинания: «Это с этим, нет – это с этим…» Потом она говорила по телефону, пила кофе, пила чай, листала журналы на круглом, шатком, замусоренном столе, потом она смотрела на часы и понимала, что уже страшно опаздывает… Тогда она заглядывала к старику, махала ему рукой и, не удосужившись даже взглянуть, спит он или бодрствует, быстро бросала свое привычное «пока, я побежала» – и тут же убегала, так и не высушив волосы, ускользала в холодные кривые переулки, семенила через пургу в своей короткой куртке, с недосушенными волосами – подальше от этого места, от запаха старой квартиры и старого человека.
И ей никогда не приходило в голову – в эту ее душистую, свежевымытую голову – просто сесть рядом с ним и посидеть хоть немного и, возможно, взять его за руку или прочесть ему статью из газеты – если не из любви, то хотя бы просто из вежливости, просто чтобы выполнить долг хозяйки дома: потому что он – хоть и медленно – но все же уходил, а она – хоть и без спросу – но все же оставалась…
Так что со стариком приходилось сидеть мне, почти круглыми сутками. Занятие не самое увлекательное – да это и не входило в мои обязанности, – но что поделаешь? Я просто не мог допустить, чтобы старик умирал в одиночестве. Я прибирался в его комнате и внимательно следил, чтобы все таблетки лежали от него подальше: с памятью у старика было неважно, и он вполне мог принять одно и то же лекарство несколько раз подряд. А еще я часами выстукивал для него разные мелодии, а он их угадывал. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук…
Тук-тук… Это действовало на старика успокаивающе… В бананово-лимонном Сингапуре… В бурю… С моей помощью ему удавалось хоть ненадолго заснуть.
Так он и заснул – навсегда – под мой стук. Когда он умирал, кроме меня рядом с ним никого не было. Я настукивал его любимую песенку. Та-та-та-та-та-та-та… Та-та-та-та-та-та-та… Та-та-та-та-та-та… У маленького Джонни… горячие ладони… и зубы, как миндаль…
И зубы, как миндаль…
И что б ни говорили… о баре Пикадилли… но это – славный бар!..
Я продолжал настукивать, даже когда он перестал дышать – мне почему-то казалось, что он все еще слушает меня, – и остановился лишь спустя час. Только тогда я почувствовал, что его больше нет в комнате. И вообще больше нет.
Я закрыл ему глаза и остался в доме один.
Я ждал ее весь вечер и всю ночь. Хотел немного прибраться на кухне – но все валилось из рук. Так что я просто сидел и смотрел в одну точку. Ел печенье. Когда я сильно расстраиваюсь или нервничаю, начинаю много есть. Такая уж у меня особенность…
Она заявилась под утро, усталая, сонная и веселая. Зашла в комнату старика. Тут же вышла. Лицо у нее было по-детски растерянное и одновременно по-бабьи недовольное. Она пришла на кухню, взяла печенье из распотрошенной мною пачки, сунула его в рот и набрала чей-то номер.
– Слушай, – сказала она в трубку. – Можно я приеду? Да знаю я сколько времени! Просто… У меня дедушка умер. Да. Да. Я боюсь здесь оставаться…
Она переоделась во все черное, причесалась и ушла.
Я посидел на кухне еще немного: думал – вдруг она передумает и вернется?.. Ведь нельзя же так! Потом зашел в комнату старика, но долго там пробыть не смог. Все это было неправильно, чудовищно неправильно! Ни свечки в руках, ни покрывала на зеркале… Я долго рылся в разных ящиках и шкафах – во всех четырех комнатах, в коридоре, на кухне… Но нормальной, приличествующей случаю свечки нигде не было. Среди ее побрякушек я обнаружил только какие-то жалкие крошечные алюминиевые плошечки, заполненные белым воском. Я все же взял одну из них, вернулся к старику и вложил эту штуковину ему в руки. Зажег. Запахло почему-то парфюмерией… Я сел рядом с телом и приготовился к ночному бдению, приготовился думать о старике, вспоминать все хорошее и не поминать плохого. Однако неуместный цветочный запах, который источала свечка, так раздражал меня, что в голову лезли только всякие злые мелочи, и колкости, и упреки, и давнишние обиды, которые были сейчас явно не ко времени… Пока я собирался с мыслями, воск в алюминиевой плошке расплавился, превратился в прозрачную ароматизированную жидкость с белой ниточкой посередине. Каким-то чудом ниточка все еще горела, едва слышно потрескивая. Но это было не то, совсем не то!
Мне стало жаль старика. Обидно и горько за него. Я потянулся, чтобы потушить этот хлипкий огонек, – но, словно уловив в воздухе мое намерение и не желая погибнуть от моей руки, он опередил меня и мгновенно погас сам. Я вынул алюминиевую плошку из пальцев старика – вероятно, чуть более поспешно, чем стоило бы, – и несколько капель горячей прозрачной жидкости вылилось на его ладонь.
– У маленького Джонни горячие ладони… – тихо напел я.
На секунду мне показалось, что обожженная рука его чуть вздрогнула… – о, я бы многое отдал за это едва уловимое движение! – но нет, только лишь показалось. Тело его было безропотным и неподвижным. Холодным.
Я накрыл все зеркала в доме – быстро и по-воровски, трусливо жмурясь. Накрыл не столько для порядка, сколько потому, что очень уж не хотел встречаться с ним взглядом, когда он решит посмотреть на меня и свой покинутый дом с той стороны стекла… Я все же знал старика очень неплохо и почти не сомневался в том, что он хоть ненадолго вернется. Особенно если учесть, что он здесь кое-что оставил… И когда он увидит свой дом – в глазах его будет даже не злость, а грусть и упрек, мне же нечем будет оправдаться. Потому что все действительно неправильно, неправильно, совсем неправильно, и вина лежит на мне…
За стариком приехали на следующий день. Двое молодцов с красными носами. Она появилась минут за пять до их прихода, успела только скинуть свою курточку и надеть на ноги тапки… Кофе выпить не успела. Потом она внимательно следила за выносом тела и так тревожилась за его сохранность («Аккуратнее, вы же его ударили!..»), точно и впрямь полагала, что это имеет хоть какое-то значение или что таким нелепым способом она сможет загладить свою вину перед стариком.
Впрочем, возможно, она просто хотела продемонстрировать двоим амбалам, увозившим труп (а заодно еще кому-то, для нее безымянному – тому, кто, чего доброго, не просто существует, но еще и наблюдает за ней в этот торжественный момент), что она – хорошая внучка. Судите сами: если она так тревожится за мертвого дедушку (даже прадедушку), трудно вообразить, сколько заботы и участия было проявлено до его кончины…
Когда они наконец ушли, она лениво подплыла к зеркалу в ванной и лениво сняла с него покрывало, которое я накануне повесил. Этим она всегда меня поражала, всегда! Ее ничего не удивляло: что-то появилось, что-то исчезло – ей было все равно. Она как будто все время спала и в этом своем сне не считала нужным обращать внимание на всякие незначительные изменения в интерьере. Ну подумаешь, тряпка на зеркале… Ну – вчера не было… Ну – сегодня приснилась… Зачем обращать на нее внимание, что в ней интересного?.. И двигалась она порой тоже словно во сне: грациозно, но при этом как-то заторможенно, не в полную силу, что ли. Она была похожа на большое красивое насекомое, медленно ползущее по поверхности бутерброда с джемом. Осторожно, осторожно, шевельнись – замри, шевельнись – замри, слишком резкое движение – и утонут лапки… Потом она вдруг оживлялась – точно ей казалось, что угроза увязнуть миновала, – и движения ее становились быстрыми и резкими. Она лихо кружила по дому, перекладывала какие-то вещи, садилась, вставала, листала, искала – и во всем этом было не больше смысла, чем в путешествии помойной мухи по комнате, в которой закрыты все окна. Пожалуй, смысла было даже меньше: муха-то хоть и бестолково, но все же ищет что-то конкретное – выход наружу, или пропитание, или удобное местечко, где можно отложить яйца… А эта – эта копошилась совершенно бесцельно. Часами…
…Она долго и с удовольствием разглядывала свое отражение. Потом приняла душ. Потом, шаркая тапками, потащилась на кухню и сварила себе кофе. Потом зазвонил телефон, и она сняла трубку.
– Я слушаю? – сказала она с этой своей идиотской вопросительной интонацией, точно только сейчас, когда зазвонил телефон, вдруг обнаружила факт своего существования и еще не успела свыкнуться с мыслью, что может что-то слышать, видеть или осязать, – и теперь вот доверчиво просила трубку, чтобы та подтвердила ей эти ее удивительные способности… – Слушаю? – еще раз недоверчиво уточнила она. – А-а-а, при-и-и-ве-е-ет!
Я ушел в комнату старика: этот растянутый, резиновый «при-и-и-ве-е-ет» обычно предназначался мужчине (причем в последнее время, кажется, всегда одному и тому же), и слушать ее воркование мне совсем не хотелось. Некоторое время я размышлял, стоит ли взять ее маникюрные ножницы (я хранил их за стиральной машиной) и перерезать телефонный провод, чтобы прервать этот дурацкий разговор. Сама-то она ни за что не догадается, что для легкомысленной болтовни сейчас самый неподходящий момент, – сейчас, когда только-только настало время теней… Однако идею с ножницами я все же отбросил – если я перережу провод, она, конечно же, как и в прошлый раз, вызовет этого свиноподобного выродка, телефонного мастера (в тот раз, кстати, никакой «уважительной причины» для прерывания их разговора у меня не было, каюсь – просто уж очень противно она хихикала, и я не выдержал), и он примется, как тогда, расхаживать по всей квартире, оставляя на полу мокрые следы, и хлюпать своим толстым, кривым носом, и громко разговаривать, брызжа слюной, и хвататься за все своими огромными сальными лапами… Ясно, что его появления никак нельзя допустить, пока длится время теней. Если они на него здесь наткнутся, то попросту уйдут, ничего не закончив. Так что лучше уж пусть она себе там чирикает по телефону… Это, конечно, будет их отвлекать – но, по крайней мере, не спугнет.
Без старика комната стала походить на больничную палату еще больше, чем с ним. Таблетки и пузырьки с лекарствами по-прежнему стояли у кровати – точно в ожидании следующего больного. Грязное белье валялось прямо на полу. Пахло медицинской аптечкой, пылью, старой одеждой, старой древесиной и старой кожей. А ведь когда-то это была детская!..
Тени вползли медленно, чинно – можно даже сказать, торжественно – и заполнили собой всю комнату, точно запеленали каждый предмет, находившийся в ней, в темно-серое покрывало. Как всегда, поначалу я немного испугался. Не люблю я их, если честно. Сколько раз с ними сталкивался – здесь же, – а до сих пор не привык. Очень уж беспристрастно они работают, есть в них какая-то неприятная уверенность, педантичность, что-то от механических щеток, которые неизбежно вычистят все – и хорошее, и плохое, и грязное, и сияющее… все подряд. Когда тело хозяина навсегда покидает дом, они приходят и выносят вслед за ним все, что может задержать в этом доме душу покойного. Они забирают прошлое – извлекают его из щелей, выскребают из каждого угла, вычищают каждый квадратный метр. Высасывают то, что было, из того, что есть. Пьют кровь прошлого…
Тени сгустились – из темно-серых они сделались почти черными. Я съежился на стуле у кровати, каждой порой своей кожи ощущая, как они копошатся здесь, во мраке, выполняют свою работу… В темноте они безошибочно находили то, что было здесь раньше, – и забирали это навсегда. Забирали все сто с лишним лет его жизни.
Они забрали плюшевые игрушки, которыми он играл в детстве, сидя на пестром ковре… И рождественские елки, украшенные конфетами и мишурой, – все двенадцать, что стояли когда-либо в этой комнате… И все подарки, что лежали под этими елками… И деревянную кроватку, в которой он спал маленьким, – когда-то она стояла здесь, у стены (потом ее разобрали и сложили в стенной шкаф; потом, когда родилась его дочь, он снова собрал ее и поставил в другой комнате – так что тени заберут ее еще и оттуда, – а потом она поломалась, и ее выбросили)… Они забрали темный ореховый шкафчик со стеклянными дверцами и все его содержимое – колбочки, пузырьки, порошки, все эти сложные химические штуки, названий которых я так и не сумел запомнить… Забрали и тот самый пестрый ковер, на котором когда-то валялись игрушки – и на котором много лет спустя извивалось в агонии человеческое тело; сначала извивалось, а потом уже просто лежало, неживое и скрюченное (через час тело убрали, а ковер скатали в рулон и выбросили – от него слишком дурно пахло)… И это неподвижное тело – его тоже забрали с собой тени… Сначала – то, страшное, с вытаращенными глазами и перепачканным подбородком. А потом – его же, но уже накрытое, почти изящное под белой накрахмаленной простыней… Еще они убрали все те кипы бумаг, все осколки, все тряпки и книги, которые были однажды разбросаны по полу, – однажды, после обыска… И грязный снег, который принесли на своих сапогах те трое, что проводили обыск, – его тоже вычистили, впитали в себя тени… Всего несколько минут – и они вынесли все, что было.
Когда они ушли и в комнате снова стало светло, я закрыл глаза и втянул носом тяжелый, неподвижный воздух, стараясь уловить хотя бы частицу, хотя бы намек, слабое дуновение того, прежнего, настоящего… но нет, ничего. Ничего не осталось.
Я прислушался: она по-прежнему трепалась по телефону.
– …хочу сдать! – донесся до меня обрывок ее фразы.
И еще, минутой позже:
– Сдам. Обязательно сдам…
Я не понял, о чем именно она говорила. Или о ком. Но точно понял (интуиция у меня всегда была отменной), что она готовит какое-то предательство.
А кого еще ей было предавать, кроме меня?
Какой стыд! Какое унижение! Позор какой! Как, как, ну как же я мог поехать за ней? За ней, которая меня не звала? И не просто не звала – всем своим видом демонстрировала, что ей на меня наплевать, что я ей совершенно не нужен!
В тот день на меня как будто что-то нашло. Когда она стала собирать вещи и я понял, что она намерена уйти насовсем, что это – переезд, я совершенно растерялся и просто не знал, что делать. Сначала решил, что просто не дам ей уйти. Не позволю, и все тут. «Какое она имела право? – думал я. – Это ее дом. Наш с ней дом. И мы оба должны жить здесь. Это правильно. Это порядочно. А срываться с места, с насиженного места и ехать неизвестно куда – просто потому, что ей шлея под хвост попала, – нет, это уж слишком, господа! На что она рассчитывает?» – думал я.
– На что ты рассчитываешь?! – спрашивал я у нее, вытряхивая из чемодана вещи, которые она туда складывала. – На что, а?! – орал я…
Анна Альфредовна Старобинец
Лучший фантаст Европы
В повестях и рассказах Анны Старобинец обыкновенная жизнь совершенно обыкновенных людей неожиданно поворачивается к читателю своей мистической пугающей изнанкой. Параллельные миры, страшные тайны, домовые – все переплетено и оставляет ощущение какой-то недосказанности. Анну Старобинец смело можно назвать отечественным Стивеном Кингом.
Анна Старобинец
Резкое похолодание. Зимняя книга
© А. Старобинец, 2020
© Д. Филатов, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
Домосед
Саше, который спас кота
Старик умирал так долго и обстоятельно, с таким усердием и какой-то даже дотошностью, что под конец я и сам стал чувствовать себя неважно, стоило мне только взглянуть в его сторону.
Девчонка ухаживала за ним плохо (впрочем, какая девчонка – давно уже за двадцать!). Она спала до полудня – хотя старик всегда просыпался на рассвете и ему сразу же нужно было принять лекарство… Она нерегулярно меняла ему постельное белье, кормила старика всегда впопыхах, на бегу, не давая толком прожевать… В комнате у него никогда надолго не задерживалась, говорила быстро, отрывисто и раздраженно – и в каждом ее жесте, в каждом движении и взгляде ясно читалось: ну, скорее же, скорей, сколько можно! Жуй быстрей, пей быстрей, умирай быстрей, не задерживай меня, не задерживай – тебе ведь уже больше ста лет, тебе пора…
Она часами металась по дому, молодая, ароматная и неряшливая, в поисках какой-нибудь своей нелепой шмотки (я, признаться, иногда прятал ее одежду – самую безвкусную, в которой, по-моему, на людях показываться стыдно), и долго встряхивала перед зеркалом влажными свежевымытыми волосами, и раз за разом снимала и надевала, швыряла и комкала, поднимала и прикладывала, и тихо шептала свои женские заклинания: «Это с этим, нет – это с этим…» Потом она говорила по телефону, пила кофе, пила чай, листала журналы на круглом, шатком, замусоренном столе, потом она смотрела на часы и понимала, что уже страшно опаздывает… Тогда она заглядывала к старику, махала ему рукой и, не удосужившись даже взглянуть, спит он или бодрствует, быстро бросала свое привычное «пока, я побежала» – и тут же убегала, так и не высушив волосы, ускользала в холодные кривые переулки, семенила через пургу в своей короткой куртке, с недосушенными волосами – подальше от этого места, от запаха старой квартиры и старого человека.
И ей никогда не приходило в голову – в эту ее душистую, свежевымытую голову – просто сесть рядом с ним и посидеть хоть немного и, возможно, взять его за руку или прочесть ему статью из газеты – если не из любви, то хотя бы просто из вежливости, просто чтобы выполнить долг хозяйки дома: потому что он – хоть и медленно – но все же уходил, а она – хоть и без спросу – но все же оставалась…
Так что со стариком приходилось сидеть мне, почти круглыми сутками. Занятие не самое увлекательное – да это и не входило в мои обязанности, – но что поделаешь? Я просто не мог допустить, чтобы старик умирал в одиночестве. Я прибирался в его комнате и внимательно следил, чтобы все таблетки лежали от него подальше: с памятью у старика было неважно, и он вполне мог принять одно и то же лекарство несколько раз подряд. А еще я часами выстукивал для него разные мелодии, а он их угадывал. Тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук…
Тук-тук… Это действовало на старика успокаивающе… В бананово-лимонном Сингапуре… В бурю… С моей помощью ему удавалось хоть ненадолго заснуть.
Так он и заснул – навсегда – под мой стук. Когда он умирал, кроме меня рядом с ним никого не было. Я настукивал его любимую песенку. Та-та-та-та-та-та-та… Та-та-та-та-та-та-та… Та-та-та-та-та-та… У маленького Джонни… горячие ладони… и зубы, как миндаль…
И зубы, как миндаль…
И что б ни говорили… о баре Пикадилли… но это – славный бар!..
Я продолжал настукивать, даже когда он перестал дышать – мне почему-то казалось, что он все еще слушает меня, – и остановился лишь спустя час. Только тогда я почувствовал, что его больше нет в комнате. И вообще больше нет.
Я закрыл ему глаза и остался в доме один.
Я ждал ее весь вечер и всю ночь. Хотел немного прибраться на кухне – но все валилось из рук. Так что я просто сидел и смотрел в одну точку. Ел печенье. Когда я сильно расстраиваюсь или нервничаю, начинаю много есть. Такая уж у меня особенность…
Она заявилась под утро, усталая, сонная и веселая. Зашла в комнату старика. Тут же вышла. Лицо у нее было по-детски растерянное и одновременно по-бабьи недовольное. Она пришла на кухню, взяла печенье из распотрошенной мною пачки, сунула его в рот и набрала чей-то номер.
– Слушай, – сказала она в трубку. – Можно я приеду? Да знаю я сколько времени! Просто… У меня дедушка умер. Да. Да. Я боюсь здесь оставаться…
Она переоделась во все черное, причесалась и ушла.
Я посидел на кухне еще немного: думал – вдруг она передумает и вернется?.. Ведь нельзя же так! Потом зашел в комнату старика, но долго там пробыть не смог. Все это было неправильно, чудовищно неправильно! Ни свечки в руках, ни покрывала на зеркале… Я долго рылся в разных ящиках и шкафах – во всех четырех комнатах, в коридоре, на кухне… Но нормальной, приличествующей случаю свечки нигде не было. Среди ее побрякушек я обнаружил только какие-то жалкие крошечные алюминиевые плошечки, заполненные белым воском. Я все же взял одну из них, вернулся к старику и вложил эту штуковину ему в руки. Зажег. Запахло почему-то парфюмерией… Я сел рядом с телом и приготовился к ночному бдению, приготовился думать о старике, вспоминать все хорошее и не поминать плохого. Однако неуместный цветочный запах, который источала свечка, так раздражал меня, что в голову лезли только всякие злые мелочи, и колкости, и упреки, и давнишние обиды, которые были сейчас явно не ко времени… Пока я собирался с мыслями, воск в алюминиевой плошке расплавился, превратился в прозрачную ароматизированную жидкость с белой ниточкой посередине. Каким-то чудом ниточка все еще горела, едва слышно потрескивая. Но это было не то, совсем не то!
Мне стало жаль старика. Обидно и горько за него. Я потянулся, чтобы потушить этот хлипкий огонек, – но, словно уловив в воздухе мое намерение и не желая погибнуть от моей руки, он опередил меня и мгновенно погас сам. Я вынул алюминиевую плошку из пальцев старика – вероятно, чуть более поспешно, чем стоило бы, – и несколько капель горячей прозрачной жидкости вылилось на его ладонь.
– У маленького Джонни горячие ладони… – тихо напел я.
На секунду мне показалось, что обожженная рука его чуть вздрогнула… – о, я бы многое отдал за это едва уловимое движение! – но нет, только лишь показалось. Тело его было безропотным и неподвижным. Холодным.
Я накрыл все зеркала в доме – быстро и по-воровски, трусливо жмурясь. Накрыл не столько для порядка, сколько потому, что очень уж не хотел встречаться с ним взглядом, когда он решит посмотреть на меня и свой покинутый дом с той стороны стекла… Я все же знал старика очень неплохо и почти не сомневался в том, что он хоть ненадолго вернется. Особенно если учесть, что он здесь кое-что оставил… И когда он увидит свой дом – в глазах его будет даже не злость, а грусть и упрек, мне же нечем будет оправдаться. Потому что все действительно неправильно, неправильно, совсем неправильно, и вина лежит на мне…
За стариком приехали на следующий день. Двое молодцов с красными носами. Она появилась минут за пять до их прихода, успела только скинуть свою курточку и надеть на ноги тапки… Кофе выпить не успела. Потом она внимательно следила за выносом тела и так тревожилась за его сохранность («Аккуратнее, вы же его ударили!..»), точно и впрямь полагала, что это имеет хоть какое-то значение или что таким нелепым способом она сможет загладить свою вину перед стариком.
Впрочем, возможно, она просто хотела продемонстрировать двоим амбалам, увозившим труп (а заодно еще кому-то, для нее безымянному – тому, кто, чего доброго, не просто существует, но еще и наблюдает за ней в этот торжественный момент), что она – хорошая внучка. Судите сами: если она так тревожится за мертвого дедушку (даже прадедушку), трудно вообразить, сколько заботы и участия было проявлено до его кончины…
Когда они наконец ушли, она лениво подплыла к зеркалу в ванной и лениво сняла с него покрывало, которое я накануне повесил. Этим она всегда меня поражала, всегда! Ее ничего не удивляло: что-то появилось, что-то исчезло – ей было все равно. Она как будто все время спала и в этом своем сне не считала нужным обращать внимание на всякие незначительные изменения в интерьере. Ну подумаешь, тряпка на зеркале… Ну – вчера не было… Ну – сегодня приснилась… Зачем обращать на нее внимание, что в ней интересного?.. И двигалась она порой тоже словно во сне: грациозно, но при этом как-то заторможенно, не в полную силу, что ли. Она была похожа на большое красивое насекомое, медленно ползущее по поверхности бутерброда с джемом. Осторожно, осторожно, шевельнись – замри, шевельнись – замри, слишком резкое движение – и утонут лапки… Потом она вдруг оживлялась – точно ей казалось, что угроза увязнуть миновала, – и движения ее становились быстрыми и резкими. Она лихо кружила по дому, перекладывала какие-то вещи, садилась, вставала, листала, искала – и во всем этом было не больше смысла, чем в путешествии помойной мухи по комнате, в которой закрыты все окна. Пожалуй, смысла было даже меньше: муха-то хоть и бестолково, но все же ищет что-то конкретное – выход наружу, или пропитание, или удобное местечко, где можно отложить яйца… А эта – эта копошилась совершенно бесцельно. Часами…
…Она долго и с удовольствием разглядывала свое отражение. Потом приняла душ. Потом, шаркая тапками, потащилась на кухню и сварила себе кофе. Потом зазвонил телефон, и она сняла трубку.
– Я слушаю? – сказала она с этой своей идиотской вопросительной интонацией, точно только сейчас, когда зазвонил телефон, вдруг обнаружила факт своего существования и еще не успела свыкнуться с мыслью, что может что-то слышать, видеть или осязать, – и теперь вот доверчиво просила трубку, чтобы та подтвердила ей эти ее удивительные способности… – Слушаю? – еще раз недоверчиво уточнила она. – А-а-а, при-и-и-ве-е-ет!
Я ушел в комнату старика: этот растянутый, резиновый «при-и-и-ве-е-ет» обычно предназначался мужчине (причем в последнее время, кажется, всегда одному и тому же), и слушать ее воркование мне совсем не хотелось. Некоторое время я размышлял, стоит ли взять ее маникюрные ножницы (я хранил их за стиральной машиной) и перерезать телефонный провод, чтобы прервать этот дурацкий разговор. Сама-то она ни за что не догадается, что для легкомысленной болтовни сейчас самый неподходящий момент, – сейчас, когда только-только настало время теней… Однако идею с ножницами я все же отбросил – если я перережу провод, она, конечно же, как и в прошлый раз, вызовет этого свиноподобного выродка, телефонного мастера (в тот раз, кстати, никакой «уважительной причины» для прерывания их разговора у меня не было, каюсь – просто уж очень противно она хихикала, и я не выдержал), и он примется, как тогда, расхаживать по всей квартире, оставляя на полу мокрые следы, и хлюпать своим толстым, кривым носом, и громко разговаривать, брызжа слюной, и хвататься за все своими огромными сальными лапами… Ясно, что его появления никак нельзя допустить, пока длится время теней. Если они на него здесь наткнутся, то попросту уйдут, ничего не закончив. Так что лучше уж пусть она себе там чирикает по телефону… Это, конечно, будет их отвлекать – но, по крайней мере, не спугнет.
Без старика комната стала походить на больничную палату еще больше, чем с ним. Таблетки и пузырьки с лекарствами по-прежнему стояли у кровати – точно в ожидании следующего больного. Грязное белье валялось прямо на полу. Пахло медицинской аптечкой, пылью, старой одеждой, старой древесиной и старой кожей. А ведь когда-то это была детская!..
Тени вползли медленно, чинно – можно даже сказать, торжественно – и заполнили собой всю комнату, точно запеленали каждый предмет, находившийся в ней, в темно-серое покрывало. Как всегда, поначалу я немного испугался. Не люблю я их, если честно. Сколько раз с ними сталкивался – здесь же, – а до сих пор не привык. Очень уж беспристрастно они работают, есть в них какая-то неприятная уверенность, педантичность, что-то от механических щеток, которые неизбежно вычистят все – и хорошее, и плохое, и грязное, и сияющее… все подряд. Когда тело хозяина навсегда покидает дом, они приходят и выносят вслед за ним все, что может задержать в этом доме душу покойного. Они забирают прошлое – извлекают его из щелей, выскребают из каждого угла, вычищают каждый квадратный метр. Высасывают то, что было, из того, что есть. Пьют кровь прошлого…
Тени сгустились – из темно-серых они сделались почти черными. Я съежился на стуле у кровати, каждой порой своей кожи ощущая, как они копошатся здесь, во мраке, выполняют свою работу… В темноте они безошибочно находили то, что было здесь раньше, – и забирали это навсегда. Забирали все сто с лишним лет его жизни.
Они забрали плюшевые игрушки, которыми он играл в детстве, сидя на пестром ковре… И рождественские елки, украшенные конфетами и мишурой, – все двенадцать, что стояли когда-либо в этой комнате… И все подарки, что лежали под этими елками… И деревянную кроватку, в которой он спал маленьким, – когда-то она стояла здесь, у стены (потом ее разобрали и сложили в стенной шкаф; потом, когда родилась его дочь, он снова собрал ее и поставил в другой комнате – так что тени заберут ее еще и оттуда, – а потом она поломалась, и ее выбросили)… Они забрали темный ореховый шкафчик со стеклянными дверцами и все его содержимое – колбочки, пузырьки, порошки, все эти сложные химические штуки, названий которых я так и не сумел запомнить… Забрали и тот самый пестрый ковер, на котором когда-то валялись игрушки – и на котором много лет спустя извивалось в агонии человеческое тело; сначала извивалось, а потом уже просто лежало, неживое и скрюченное (через час тело убрали, а ковер скатали в рулон и выбросили – от него слишком дурно пахло)… И это неподвижное тело – его тоже забрали с собой тени… Сначала – то, страшное, с вытаращенными глазами и перепачканным подбородком. А потом – его же, но уже накрытое, почти изящное под белой накрахмаленной простыней… Еще они убрали все те кипы бумаг, все осколки, все тряпки и книги, которые были однажды разбросаны по полу, – однажды, после обыска… И грязный снег, который принесли на своих сапогах те трое, что проводили обыск, – его тоже вычистили, впитали в себя тени… Всего несколько минут – и они вынесли все, что было.
Когда они ушли и в комнате снова стало светло, я закрыл глаза и втянул носом тяжелый, неподвижный воздух, стараясь уловить хотя бы частицу, хотя бы намек, слабое дуновение того, прежнего, настоящего… но нет, ничего. Ничего не осталось.
Я прислушался: она по-прежнему трепалась по телефону.
– …хочу сдать! – донесся до меня обрывок ее фразы.
И еще, минутой позже:
– Сдам. Обязательно сдам…
Я не понял, о чем именно она говорила. Или о ком. Но точно понял (интуиция у меня всегда была отменной), что она готовит какое-то предательство.
А кого еще ей было предавать, кроме меня?
Какой стыд! Какое унижение! Позор какой! Как, как, ну как же я мог поехать за ней? За ней, которая меня не звала? И не просто не звала – всем своим видом демонстрировала, что ей на меня наплевать, что я ей совершенно не нужен!
В тот день на меня как будто что-то нашло. Когда она стала собирать вещи и я понял, что она намерена уйти насовсем, что это – переезд, я совершенно растерялся и просто не знал, что делать. Сначала решил, что просто не дам ей уйти. Не позволю, и все тут. «Какое она имела право? – думал я. – Это ее дом. Наш с ней дом. И мы оба должны жить здесь. Это правильно. Это порядочно. А срываться с места, с насиженного места и ехать неизвестно куда – просто потому, что ей шлея под хвост попала, – нет, это уж слишком, господа! На что она рассчитывает?» – думал я.
– На что ты рассчитываешь?! – спрашивал я у нее, вытряхивая из чемодана вещи, которые она туда складывала. – На что, а?! – орал я…