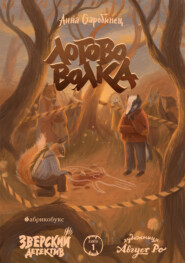По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Резкое похолодание. Зимняя книга
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Назвать его уродливым можно было лишь с очень большой натяжкой и только за неимением в языке терминов, более красноречиво характеризующих подобную внешность. То есть слово «уродливый» говорило о его облике столь же мало, сколько слово «немой» – об устройстве речевого аппарата покойника или слово «веселый» – об эмоциональном состоянии буйнопомешанного.
Лицо его представляло собой презанятное месиво из дюжины самых разных человеческих физиономий. Казалось, что некий всемогущий маньяк-расчленитель собрал его из подручных деталей – неодинаковой величины огрызков, шмотков и кусочков расчлененных жертв, а потом каким-то чудом вдохнул в созданное им существо жизнь. Иссеченная морщинами бледная старческая кожа перемежалась на его лице лоскутами по-детски розовыми и мягкими, а также смуглыми, поросшими жесткой черной щетиной, и игриво-веснушчатыми. Капризно изогнутые ниточки дамских бровей соединялись мохнатой кустистой порослью на переносице. Глаза были разные. Один – блестящий, темно-карий – маленьким злым буравчиком ввинтился куда-то в щеку. Другой – большой, задумчивый, мутно-серый – расположился на лбу. Рот сильно кривился влево, губы тоже были разными, на нос я вообще старался не смотреть… Одежда его и руки были вымазаны в крови – надо думать, моей.
Возраста он был, мягко выражаясь, неопределенного. И все же, приглядевшись, я стал склоняться к мысли, что, кем бы это существо ни было, оно было довольно молодым. Его разные глаза смотрели на меня с той смесью злорадства и острого любопытства, с какой смотрят только дети на раненных ими животных или других детей…
Некоторое время мы оба молчали. Я, как загипнотизированный, таращился на него. А потом он нарушил молчание. Он подошел вплотную, ударил меня ногой по лицу и дребезжащим, срывающимся, как у подростка, голосом, сказал:
– Изба с углами, в углах иконы…
И я понял, кто он.
Он сказал:
– Окладны бревна, двери с запором… – и снова меня ударил.
Я не дал ему сдачи – только попытался заслонить лицо руками. Я строго придерживаюсь правила: не бить своих. Для своих есть слова, простые и сложные. И орудия убийства, довольно простые, на тот случай, если не действуют никакие – даже сложные – слова. Для своих есть заклинания и проклятия, есть яды, ножи и веревки. Но в драку не вступают с себе подобными. А он… Безусловно, мне было бы куда проще признать, что эта тварь – пришелец из космоса (хотя я отродясь не верил в инопланетян) или больной мутант, материализовавшийся из печального сна какого-нибудь замученного совестью ученого-ядерщика… Но он сказал то, что он сказал. А значит – сколь бы трудно ни было в это поверить – он был подобен мне.
Так что я не ударил его. Я только вытер кровь с лица и продолжил за него:
– Чур от злого, чур от чужого…
И еще я сказал, что пришел с миром. Как гость, а не как хозяин. Аминь.
– Ну да, с миром ты пришел, как же! – отозвался он довольно сварливо, но лягаться, впрочем, перестал и вообще заметно успокоился – даже отошел на пару шагов назад, как бы давая понять, что больше меня не тронет.
– А чё пришел-то ваще? – уже почти миролюбиво поинтересовался он. – Кто тебя сюда звал?
– Никто.
Только в этот момент я вполне осознал, насколько унизительно мое положение.
– Ну так и чё пришел? Чё вы все сюда ходите? Нюх, что ли, отшибло? Я ж тут все пометил, в подъезде… Чё вы лезете на чужую территорию?
– Пометил? – мне показалось, что я ослышался.
– Вот именно, пометил. Это моя территория. Нечего сюда лезть. Я за себя постоять умею.
– Ты хочешь сказать, что ты пометил тут… так сказать… территорию, как… как… – Я действительно растерялся. – Как, например, собака? Как животное?
– Ну да. А как еще можно метить – как растение, что ли? Как фикус?
Он громко, по-ослиному, заржал.
– Идиот! – Я разозлился. – До чего докатились! Как фикус…
– Выбирай выражения! – Он снова подскочил ко мне. – Чё те не так? Все метят – и я мечу! Как все.
– Кто «все»?
– Все здесь, в подъезде. Тут и люди метят… И собаки… Я чё, хуже?
– Слушай, тебя что, мама-папа вообще не воспитывали? Не говорили тебе, что мы не метим? Что это ниже нашего достоинства? Что это позор для всего рода?
– Они ушли.
– Кто ушел?
– Мама и папа. – Он неопределенно махнул рукой, то ли указывая направление, в котором они удалились, то ли вычерчивая в воздухе их силуэты, то ли вообще без всякой цели.
– Куда ушли? В другой дом?
– Нет.
– А… прости. Умерли, значит?
– Ну, сейчас – не знаю, может, и умерли уже. А когда уходили – живые были.
– Так куда же они все-таки ушли?
– На улицу.
– На улицу?! – Я не верил собственным ушам.
– На улицу.
– Зачем?
Он промолчал.
– А тебя чего с собой не взяли?
– Сказали, что маленький еще. На улице, сказали, пропадешь, живи пока здесь…
– И давно ты здесь… один?
– Лет пять. А может, десять. Точно не помню.
Я вдруг осознал, что по-прежнему сижу на грязном кафеле. Медленно поднялся. Все, кроме головы, было вроде бы цело. А голова болела. Сильно.
– Ты меня избил, – глупо констатировал я.
– Потому что нечего, – он был абсолютно уверен в своей правоте. – Нечего в чужой дом без спросу лезть.
– Я вообще-то не один пришел.
– А, ну да, с этой… как ее. А она тебя что, пригласила? – Он подбоченился. – Что, слова сказала? «Хозяин-господин! Пойдем в новый дом…»?
– Перестань!
Лицо его представляло собой презанятное месиво из дюжины самых разных человеческих физиономий. Казалось, что некий всемогущий маньяк-расчленитель собрал его из подручных деталей – неодинаковой величины огрызков, шмотков и кусочков расчлененных жертв, а потом каким-то чудом вдохнул в созданное им существо жизнь. Иссеченная морщинами бледная старческая кожа перемежалась на его лице лоскутами по-детски розовыми и мягкими, а также смуглыми, поросшими жесткой черной щетиной, и игриво-веснушчатыми. Капризно изогнутые ниточки дамских бровей соединялись мохнатой кустистой порослью на переносице. Глаза были разные. Один – блестящий, темно-карий – маленьким злым буравчиком ввинтился куда-то в щеку. Другой – большой, задумчивый, мутно-серый – расположился на лбу. Рот сильно кривился влево, губы тоже были разными, на нос я вообще старался не смотреть… Одежда его и руки были вымазаны в крови – надо думать, моей.
Возраста он был, мягко выражаясь, неопределенного. И все же, приглядевшись, я стал склоняться к мысли, что, кем бы это существо ни было, оно было довольно молодым. Его разные глаза смотрели на меня с той смесью злорадства и острого любопытства, с какой смотрят только дети на раненных ими животных или других детей…
Некоторое время мы оба молчали. Я, как загипнотизированный, таращился на него. А потом он нарушил молчание. Он подошел вплотную, ударил меня ногой по лицу и дребезжащим, срывающимся, как у подростка, голосом, сказал:
– Изба с углами, в углах иконы…
И я понял, кто он.
Он сказал:
– Окладны бревна, двери с запором… – и снова меня ударил.
Я не дал ему сдачи – только попытался заслонить лицо руками. Я строго придерживаюсь правила: не бить своих. Для своих есть слова, простые и сложные. И орудия убийства, довольно простые, на тот случай, если не действуют никакие – даже сложные – слова. Для своих есть заклинания и проклятия, есть яды, ножи и веревки. Но в драку не вступают с себе подобными. А он… Безусловно, мне было бы куда проще признать, что эта тварь – пришелец из космоса (хотя я отродясь не верил в инопланетян) или больной мутант, материализовавшийся из печального сна какого-нибудь замученного совестью ученого-ядерщика… Но он сказал то, что он сказал. А значит – сколь бы трудно ни было в это поверить – он был подобен мне.
Так что я не ударил его. Я только вытер кровь с лица и продолжил за него:
– Чур от злого, чур от чужого…
И еще я сказал, что пришел с миром. Как гость, а не как хозяин. Аминь.
– Ну да, с миром ты пришел, как же! – отозвался он довольно сварливо, но лягаться, впрочем, перестал и вообще заметно успокоился – даже отошел на пару шагов назад, как бы давая понять, что больше меня не тронет.
– А чё пришел-то ваще? – уже почти миролюбиво поинтересовался он. – Кто тебя сюда звал?
– Никто.
Только в этот момент я вполне осознал, насколько унизительно мое положение.
– Ну так и чё пришел? Чё вы все сюда ходите? Нюх, что ли, отшибло? Я ж тут все пометил, в подъезде… Чё вы лезете на чужую территорию?
– Пометил? – мне показалось, что я ослышался.
– Вот именно, пометил. Это моя территория. Нечего сюда лезть. Я за себя постоять умею.
– Ты хочешь сказать, что ты пометил тут… так сказать… территорию, как… как… – Я действительно растерялся. – Как, например, собака? Как животное?
– Ну да. А как еще можно метить – как растение, что ли? Как фикус?
Он громко, по-ослиному, заржал.
– Идиот! – Я разозлился. – До чего докатились! Как фикус…
– Выбирай выражения! – Он снова подскочил ко мне. – Чё те не так? Все метят – и я мечу! Как все.
– Кто «все»?
– Все здесь, в подъезде. Тут и люди метят… И собаки… Я чё, хуже?
– Слушай, тебя что, мама-папа вообще не воспитывали? Не говорили тебе, что мы не метим? Что это ниже нашего достоинства? Что это позор для всего рода?
– Они ушли.
– Кто ушел?
– Мама и папа. – Он неопределенно махнул рукой, то ли указывая направление, в котором они удалились, то ли вычерчивая в воздухе их силуэты, то ли вообще без всякой цели.
– Куда ушли? В другой дом?
– Нет.
– А… прости. Умерли, значит?
– Ну, сейчас – не знаю, может, и умерли уже. А когда уходили – живые были.
– Так куда же они все-таки ушли?
– На улицу.
– На улицу?! – Я не верил собственным ушам.
– На улицу.
– Зачем?
Он промолчал.
– А тебя чего с собой не взяли?
– Сказали, что маленький еще. На улице, сказали, пропадешь, живи пока здесь…
– И давно ты здесь… один?
– Лет пять. А может, десять. Точно не помню.
Я вдруг осознал, что по-прежнему сижу на грязном кафеле. Медленно поднялся. Все, кроме головы, было вроде бы цело. А голова болела. Сильно.
– Ты меня избил, – глупо констатировал я.
– Потому что нечего, – он был абсолютно уверен в своей правоте. – Нечего в чужой дом без спросу лезть.
– Я вообще-то не один пришел.
– А, ну да, с этой… как ее. А она тебя что, пригласила? – Он подбоченился. – Что, слова сказала? «Хозяин-господин! Пойдем в новый дом…»?
– Перестань!