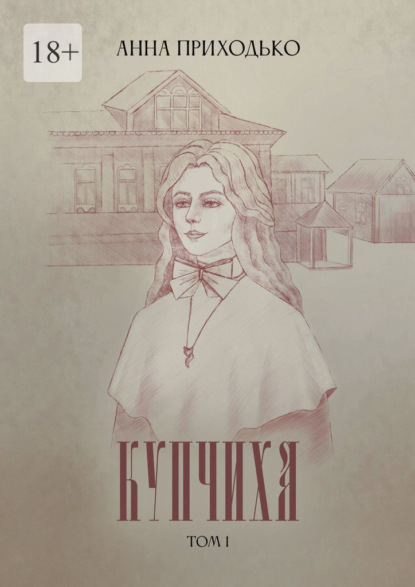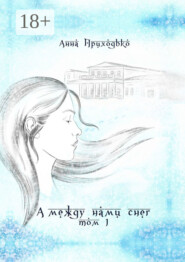По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Купчиха. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А тут тебе, значит, не по-человечески? – возмутился Полянский.
– А тут нет, – Иван осмотрел комнату. – Можно было всё это сберечь, а так… Моль сожрала, да крысы помогли.
– Что есть, то есть… – пробормотал Пётр Николаевич как-то виновато. – Пойдём вниз, отдышишься и начнёшь вить своё кузнецкое гнездо в моём доме. Да потише себя веди. Евгенька вон второй день беспробудно спит. Намаялась она, пока ты плохой был.
А у Ивана даже ноги тряслись от одной мысли о Евгении. Как давно он её не видел!
За завтраком в кузнеца никакая пища не лезла. Хотя стол был накрыт богато. Только маленькую кружку молока он осилил. И пока Полянский набивал свой желудок, именно набивал, Иван всё рассматривал свои руки.
– Мы покушать любим, – приговаривал Пётр Николаевич. – Ну как можно без еды-то прожить? Я же говорю, Евгеньку тебе своими силами ни за что не прокормить. А голодом морить лисоньку мою я не позволю, так и знай.
– А я и не собираюсь, – возмутился Иван. – Она мне не жена, чтобы в еде её ограничивать, и не станет ею.
– А отчего же не станет? – Пётр Николаевич отвлёкся от поедания большого бедра индейки. – А вот как прикажу, и станет!
Иван лишь рассмеялся в ответ.
– Не станет, не станет, – послышался голос Евгении.
Иван оглянулся и обомлел.
Она спускалась с лестницы. Огненные волосы пышной копной горели на голове. Всё вокруг, казалось, пылало от жара этих волос. Пылал и Иван. Он стыдливо спрятал руки в рукава, выпрямил спину. Разволновался так сильно, что опять заболела голова.
– Не стану, – повторила Евгения. – Я свою кровь мешать абы с кем не стану.
Кузнецу стало не по себе.
Евгения прошла мимо него, словно даже не заметила.
– Здравствуй, Евгения Петровна, – произнёс Иван.
Но девушка ничего не ответила. Она подошла к отцу. Подставила под его губы лоб.
Перед тем как поцеловать дочь, Пётр Николаевич вытер о рукав свои жирные губы. И смачно чмокнул девушку в лоб, а потом и в каждую щеку.
– Выспалась, лисонька? – спросил её отец.
– Вполне, папенька.
Потом Полянский долго рассказывал дочери, как сидел рядом с ней ночью, как пел колыбельные, как щекотал её за пятки, а она даже не проснулась ни разу.
Евгенька посмеивалась. Ивану казалось, что смех этот наигранный, совсем неискренний.
Беседа с дочкой отвлекла Полянского от еды. А потом он так неожиданно заорал:
– Михей! А ну, ить сюда! Согрей маленько, чтобы жир кусками в горле не встал.
Евгения совсем не обращала на Ивана внимания. Присела рядом с отцом. Но на еду не набросилась. А лишь немного каши пшеничной поела да огурцом квашеным закусила.
А воображение Ивана рисовало другие картины: сидит его любимая посреди стола. Вокруг неё дымятся тарелки с молоденькими поросятами. А она их прямо целиком в рот запихивает и смеётся, смеётся…
Очнулся Иван опять в комнате Евгенькиной матери.
Предположил, что упал он в обморок за столом, да его опять сюда привели.
Он встал с кровати. Первым делом сдёрнул с кресла дырявую накидку, потом другую. Небрежно бросил на пол.
– Гнездо кузнецкое, значит… – передразнил он Полянского. – Будет вам и гнездо, и пища простая, и чертовка эта, Евгенька, моей будет! Сама придёт, сатана эдакая. А тогда и я поиздеваюсь вдоволь…
***
Вот уже несколько дней конюх Георгий приходил к Петру Николаевичу с просьбой отпустить его в родные степи. Но Полянский лишь у виска крутил и давал понять, что никогда его не отпустит.
За все годы жизни у Полянского Джурык-Георгий столько слов не сказал, как в эти дни.
Пётр удивлялся словарному запасу конюха, его настойчивости и назойливости. Пригрозил даже тем, что перестанет жалование платить, если тот не отстанет.
Бабушка Анисия совсем пропала из виду. Она даже отказалась прийти взглянуть на выздоровевшего Ивана.
Мария же около месяца ещё показывалась на глаза, а потом тоже исчезла. Поначалу никто не придал этому значения. А позже поползли слухи по деревне, что видели Марию вечером у реки, что ходила она кругами вокруг костра, а её бабка голышом в той реке купалась, а из реки за руку мать свою выводил сам конюх.
Слухи ведь не появляются из ниоткуда. И в июле 1914 года Марию заметили в церкви с животом. Вот тогда жизнь семьи конюха превратилась в ад.
Все как один говорили, что дочь беременна от отца, что не место таким развратникам в деревне. Несколько раз поджигали дом.
И когда конюх пришёл к Петру Николаевичу просить помощи, тот велел сначала рассказать всю правду. А правда была для Полянского ударом.
– Я же Фёдора своими руками придушить тогда шёл, – произнёс Георгий. – Он надругался над дочерью моей, она долго молчала, а потом я нашёл её в сарае. Задумала она страшное дело. Еле отговорил, пообещал увезти отсюда.
Злые тут люди, Пётр Николаевич. Ты уж, не держи меня при себе. Мне бы уехать на землю моих отцов. Только там я буду спокоен, только там спасу свою дочь. Сказать можно всё. Муж её как будто в пути погибнет. Мне поверят, да и оправдываться не перед кем, лет сколько прошло…
После разговора с конюхом Пётр Николаевич велел ему собираться и пообещал самостоятельно сопроводить его на родину.
Но быстрого отъезда не получилось. Кто-то вечером напал на Анисию. Она уже подходила к дому с коромыслом и упала у калитки от удара по голове. Три ночи она кричала на всю деревню, а потом отмучилась.
Георгий в ту ночь поджёг несколько деревенских домов. Его заметили. Наутро полиция наведалась к нему, чтобы завести дело о поджогах, но конюх сбежал, оставив дома свою дочь и умершую мать.
Полянский временно приютил Марию в своём доме. Такая благосклонность с его стороны стала поводом для новых сплетен.
Евгенька же от отца такого не ожидала. Увидев в столовой Марию, с аппетитом уплетающую цыплёнка, поморщилась. А потом подошла к ней и сказала:
– Доедай, и чтобы глаза мои тебя тут не видели.
– Ну-ну, лисонька, – вмешался Пётр Николаевич, – девушка будет жить у нас, пока я ей место не подберу в монастыре каком-нибудь, али в семью какую определю. Потерпи, доченька, всё наладится.
Мария даже есть перестала. Виновато склонила голову.
***