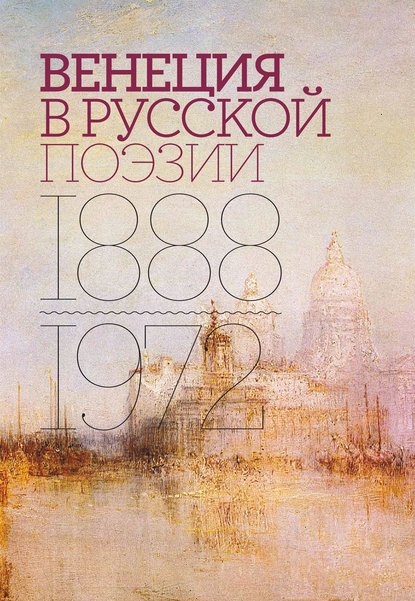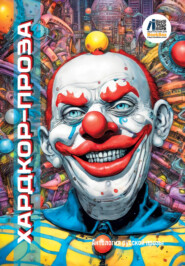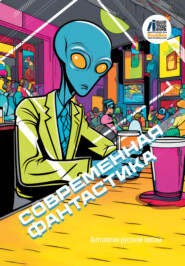По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Венеция в русской поэзии. Опыт антологии. 1888–1972
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В дарохранительный ковчежец Божий
Вселенная несет, служа жезлам
Фригийскою скуфьей венчанных дожей,
По изумрудным Адрии валам…
(Вяч. Иванов[45 - Как указывает Джон Малмстад, при «прямом» синтаксисе это должно читаться так: «Вселенная, служа жезлам дожей, венчанных фригийской скуфьей, несет на галерах и фрегатах по изумрудным валам Адрии початки и ключи сокровищниц в дарохранительный ковчежец Божий».])
Именно в этой дарохранительнице Сан-Марко вспоминал о полукраденом добре Василий Розанов:
Пираты Адриатики, так напоминающие наших запорожцев, потащили сюда все, притащили даже две колонны из Соломонова храма, когда-то перевезенные в Константинополь; <…> По понятному чувству я особенно рассматривал колонны из Соломонова храма[46 - Розанов В. Итальянские впечатления. СПб., 1909. С. 225, 228. Ср. у Теофиля Готье о четырех черно-белых мраморных колоннах, которых традиция считает частью Соломонова храма. «Несомненно строитель храма Хирам не нашел бы их неуместными в Сан-Марко» (Thеophile Gautier. Italia. Paris, 1852. P. 114–115). О «Соломонических аналогиях» в архитектуре как одной из составляющей концепции «Венеция – Новый Иерусалим» см.: Iain Fenlon. The Ceremonial City: History, Memory and Myth in Renaissance Venice. New Haven, 2008. P. 86–88.].
Задержимся у этой достопримечательности, отмеченной персонажами нашей антологии – Н. Шутлевортом («Из храма Соломона он / Имеет несколько колонн»), Н. Заболоцким («Покинув собор Соломона, / Египет и пышный Царьград, / С тех пор за колонной колонна / На цоколях этих стоят»). Миф о колоннах Первого храма поддерживался многими поколениями гидов – эти псевдоуроженцы Иерусалима соседствовали с гигантским зубом Голиафа и автографом Евангелия от Марка; в XVII веке там наряду с пальцем Магдалины показывали фрагмент колонны, к которой Христос был привязан во время бичевания[47 - Robert C. Davis, Garry R. Marvin. Venice, the Tourist Maze: A Cultural Critique of the World’s Most Touristed City. Berkeley: University of California Press, 2004. P. 20, 34.]. Валерий Брюсов с его пафосом панхронности воспел витые колонны в базилике (выполненные в подражание спиральным колоннам в римском соборе Св. Петра, которые, по преданию эпохи позднего Средневековья, стояли в Иерусалимском храме) в одном из последних своих стихотворений:
…Вся ярость, хлынула в века.
Чтоб в наши дни, врываясь ярко,
Нас спрашивать, нам отвечать,
Горя сквозь вязь колонн San Marco
На Соломонову печать[48 - Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. М., 1974. С. 435.].
Соломонову ярь в штопорообразных венецианских столпах величало эротическое стихотворение седеющего Брюсова, любившего в ту пору сопрягать древлесоветскую символику с перечнем всех тех богатств, которые выработало человечество, – стихотворение «Кто? – мы? Иль там…», увидевшее в крученых колоннах сплетающее тела либидо легендарного автора Песни Песней, датировано 8 марта 1922 года как подношение к Международному женскому дню:
Моя рука – к твоей святыне,
На дрожь мою – ладонь твоя;
Сан-Марко два жгута витые
Колени жгут, мечту двоя[49 - Там же. С. 146.].
Так преломлялось пространство города на воде, в нем просвечивали Константинополь и безводный Иерусалим. Может, его «всемирная отзывчивость» подталкивала к созданию междугородных коллажей, вроде «Каприччо: собор Св. Павла и венецианский канал», архитектурная фантазия (1795) английского пейзажиста Уильяма Марлоу (в галерее Тейт) – подражатель Каналетто «о Венеции подумал и о Лондоне зараз», как в стихотворении Ахматовой[50 - См. подробнее: Erik Forssman. Venedig in der Kunst und im Kunsturteil des 19. Jahrhunderts (Acta Universitatis Stockholmiensis XXII). Stockholm, 1971. S. 104–106.]. Сам Каналетто создал архитектурное каприччо с мостом Риальто, соседствующим с палладиевскими зданиями в Виченце. Стихотворное каприччо, создающее синтетический образ всеевропейского «мертвого города» с участием Венеции и, наверное, столицы мертвых городов – Брюгге[51 - О Брюгге, Толедо, Венеции, Равенне, Пизе и других «мертвых городах» см.: Hans Hinterh?user. Fin de si?cle: Gestalten und Mythen. M?nchen, 1977. S. 45–76.], создал поэт из одного из самых живых городов России:
Уходя в ночные дали,
Плещет крыльями весна,
И разбрызгана в канале
Черным золотом луна.
Я заброшен в дымный вечер
Всплеском тяжкого весла,
Мертвый город нем и вечен,
Овечерив купола.
Посеревший старый мрамор
Разузорен у крыльца,
И, пронзая небо, замер
Шпиль печального дворца.
И безмолвные лагуны,
Как стеклянный саркофаг,
Отражают столб чугунный,
Наклонившийся во мрак.
И не слышно снова чуда
За стеной монастыря,
Лишь качается Иуда
В темной нише фонаря.
И колеблется визгливо
Цепь на согнутом крюке,
Волны в пене у залива
На забрызганном песке.
Бродят грязные инкубы,
Светит ржавая луна,
И целует жадно в губы
Подошедшая весна.
И за мной, за мною тоже
Гонит дикого коня,
Он – до ужаса похожий
На умершего меня[52 - Бобович И. Мертвый город // Южная мысль. Одесса, 1914. 6 апреля. Об Исидоре Вульфовиче Бобовиче (1894–1979) см. справку Сергея Лущика: Лущик С. З. Чудо в пустыне: Одесские альманахи 1914–1917 годов // Дом князя Гагарина: Сб. науч. ст. и публикаций. Вып. 3. Ч. 1. Одесса, 2004. С. 210.].
Мысль конца прошлого века предлагала еще более решительную телепортацию – в «мир неземного благого одиночества»:
Будут тени, в бархаты одетые,
В узких лодках проплывать,
Будто серебристыми стилетами
Резать меркнущую гладь.
И на бледные немые тени я
В той Венеции – другой —
В голубом четвертом измерении
Погляжу, мой дорогой[53 - Чиннов И. Пасторали. Париж, 1976. С. 57.].
Но и время венецианское подвержено метаморфозам[54 - См., например, о клише «остановившееся время»: Смирнов Г. «Венецию любят только иностранцы» // Известия. 2003. 10 сентября.]. Как пересказывал блоковское стихотворение «Холодный ветер от лагуны…» один из блоковедов,
«Путешественник» здесь перевоплощается не в персонаж истории, не в возможного на этом же месте человека прошлого <…> но в персонаж, уже изображенный, претворенный культурой: в мифологического героя, участвовавшего в сюжете культуры – живописи, скажем. В произведении получается как бы несколько пластов: мифологический герой, отражавший некие черты жизни, уже в мифе получал исторически определенное обобщение, идейную обработку. Далее миф использовался культурой другой эпохи, итальянским Возрождением. Наконец, есть третье, сегодняшнее его восприятие: современным человеком, который, как пояснял Блок в прозе, принес с собой, в своем восприятии другую страну и другую историю, Россию эпохи черной реакции после первой русской революции. Необычайной смелостью отличается здесь художественный «ход» Блока: «проходящее лицо», «путешественник» перевоплощается тут в героя того жизненного сюжета, который находится в «начале начал», переходит в «жизненное ядро», лежащее где-то еще за гранями даже самого мифа. Далее следует, в порядке истории, сначала эпоха мифа, потом Ренессанс, потом современность. Блок как бы крутит киноленту, зафиксировавшую все эти этапы истории, с конца к началу, обратным ходом, самым простым и откровенным образом отождествив лирическое «я» с мифологическим Иоканааном[55 - Громов П. А. Блок, его предшественники и современники. М.; Л., 1966. С. 362–363.].
Чаяние «мирсконца», реверсивного времени (как и метемпсихоза – в третьем блоковском стихотворении из цикла «Венеции») – признак русской культуры 1910?х годов. «Все шло обратно, как всегда бывает во сне», – говорится в прозе Мандельштама о Северной Венеции, в «Египетской марке», и этим слово найдено.
Встает туманный град в дали завороженной,
Как гордой памяти неусыпимый сон… —
говорит Вячеслав Иванов. И Константин Бальмонт, побывавший в Венеции в 1897 году и видавший там такое, что иному поэту, которому по-некрасовски «мерещится всюду драма», послужило бы материалом для стихов[56 - Например, он отправился на Сан Серволо к сумасшедшему дому, описанному в поэме Шелли: «…я приплыл в гондоле, взглянуть на это убежище живых, выброшенных из жизни, лицо, более всех поразившее меня, было исступленное лицо молодой красивой итальянки, которая, стоя на решетчатом окне, с бешенством без конца выкрикивала повесть, как он ее бросил» (Шелли. Полное собрание сочинений в переводе К. Д. Бальмонта. Новое трехтомное переработанное издание. Т. 2. СПб., 1904. С. 581–582).], специальных стихотворений в Венеции, насколько нам известно, не написал, предпочитая встречи с ней во снах:
В окутанной снегом пленительной Швеции
На зимние стекла я молча глядел,
И ярко мне снились каналы Венеции,
Мне снился далекий забытый предел.
<…>
И снова, как прежде, звеня отголосками,
Волна сладкозвучно росла за волной,
И светлые тени, подъятые всплесками,
На гондолах плыли под бледной Луной[57 - Бальмонт К. Тишина. Лирические поэмы. СПб., 1898. С. 35. Впрочем, в обзорном сонете «Италия» упоминаются в перечислении «Неаполь, шабаш солнца неизменный, / Флоренция, лазурный серафим, / Венеция, где страстью дух палим, / А живопись – цвет золота нетленный» (Бальмонт К. Два сонета к Италии // Утро России. 1917. № 24. 24 января. С. 2).].
Вселенная несет, служа жезлам
Фригийскою скуфьей венчанных дожей,
По изумрудным Адрии валам…
(Вяч. Иванов[45 - Как указывает Джон Малмстад, при «прямом» синтаксисе это должно читаться так: «Вселенная, служа жезлам дожей, венчанных фригийской скуфьей, несет на галерах и фрегатах по изумрудным валам Адрии початки и ключи сокровищниц в дарохранительный ковчежец Божий».])
Именно в этой дарохранительнице Сан-Марко вспоминал о полукраденом добре Василий Розанов:
Пираты Адриатики, так напоминающие наших запорожцев, потащили сюда все, притащили даже две колонны из Соломонова храма, когда-то перевезенные в Константинополь; <…> По понятному чувству я особенно рассматривал колонны из Соломонова храма[46 - Розанов В. Итальянские впечатления. СПб., 1909. С. 225, 228. Ср. у Теофиля Готье о четырех черно-белых мраморных колоннах, которых традиция считает частью Соломонова храма. «Несомненно строитель храма Хирам не нашел бы их неуместными в Сан-Марко» (Thеophile Gautier. Italia. Paris, 1852. P. 114–115). О «Соломонических аналогиях» в архитектуре как одной из составляющей концепции «Венеция – Новый Иерусалим» см.: Iain Fenlon. The Ceremonial City: History, Memory and Myth in Renaissance Venice. New Haven, 2008. P. 86–88.].
Задержимся у этой достопримечательности, отмеченной персонажами нашей антологии – Н. Шутлевортом («Из храма Соломона он / Имеет несколько колонн»), Н. Заболоцким («Покинув собор Соломона, / Египет и пышный Царьград, / С тех пор за колонной колонна / На цоколях этих стоят»). Миф о колоннах Первого храма поддерживался многими поколениями гидов – эти псевдоуроженцы Иерусалима соседствовали с гигантским зубом Голиафа и автографом Евангелия от Марка; в XVII веке там наряду с пальцем Магдалины показывали фрагмент колонны, к которой Христос был привязан во время бичевания[47 - Robert C. Davis, Garry R. Marvin. Venice, the Tourist Maze: A Cultural Critique of the World’s Most Touristed City. Berkeley: University of California Press, 2004. P. 20, 34.]. Валерий Брюсов с его пафосом панхронности воспел витые колонны в базилике (выполненные в подражание спиральным колоннам в римском соборе Св. Петра, которые, по преданию эпохи позднего Средневековья, стояли в Иерусалимском храме) в одном из последних своих стихотворений:
…Вся ярость, хлынула в века.
Чтоб в наши дни, врываясь ярко,
Нас спрашивать, нам отвечать,
Горя сквозь вязь колонн San Marco
На Соломонову печать[48 - Брюсов В. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 3. М., 1974. С. 435.].
Соломонову ярь в штопорообразных венецианских столпах величало эротическое стихотворение седеющего Брюсова, любившего в ту пору сопрягать древлесоветскую символику с перечнем всех тех богатств, которые выработало человечество, – стихотворение «Кто? – мы? Иль там…», увидевшее в крученых колоннах сплетающее тела либидо легендарного автора Песни Песней, датировано 8 марта 1922 года как подношение к Международному женскому дню:
Моя рука – к твоей святыне,
На дрожь мою – ладонь твоя;
Сан-Марко два жгута витые
Колени жгут, мечту двоя[49 - Там же. С. 146.].
Так преломлялось пространство города на воде, в нем просвечивали Константинополь и безводный Иерусалим. Может, его «всемирная отзывчивость» подталкивала к созданию междугородных коллажей, вроде «Каприччо: собор Св. Павла и венецианский канал», архитектурная фантазия (1795) английского пейзажиста Уильяма Марлоу (в галерее Тейт) – подражатель Каналетто «о Венеции подумал и о Лондоне зараз», как в стихотворении Ахматовой[50 - См. подробнее: Erik Forssman. Venedig in der Kunst und im Kunsturteil des 19. Jahrhunderts (Acta Universitatis Stockholmiensis XXII). Stockholm, 1971. S. 104–106.]. Сам Каналетто создал архитектурное каприччо с мостом Риальто, соседствующим с палладиевскими зданиями в Виченце. Стихотворное каприччо, создающее синтетический образ всеевропейского «мертвого города» с участием Венеции и, наверное, столицы мертвых городов – Брюгге[51 - О Брюгге, Толедо, Венеции, Равенне, Пизе и других «мертвых городах» см.: Hans Hinterh?user. Fin de si?cle: Gestalten und Mythen. M?nchen, 1977. S. 45–76.], создал поэт из одного из самых живых городов России:
Уходя в ночные дали,
Плещет крыльями весна,
И разбрызгана в канале
Черным золотом луна.
Я заброшен в дымный вечер
Всплеском тяжкого весла,
Мертвый город нем и вечен,
Овечерив купола.
Посеревший старый мрамор
Разузорен у крыльца,
И, пронзая небо, замер
Шпиль печального дворца.
И безмолвные лагуны,
Как стеклянный саркофаг,
Отражают столб чугунный,
Наклонившийся во мрак.
И не слышно снова чуда
За стеной монастыря,
Лишь качается Иуда
В темной нише фонаря.
И колеблется визгливо
Цепь на согнутом крюке,
Волны в пене у залива
На забрызганном песке.
Бродят грязные инкубы,
Светит ржавая луна,
И целует жадно в губы
Подошедшая весна.
И за мной, за мною тоже
Гонит дикого коня,
Он – до ужаса похожий
На умершего меня[52 - Бобович И. Мертвый город // Южная мысль. Одесса, 1914. 6 апреля. Об Исидоре Вульфовиче Бобовиче (1894–1979) см. справку Сергея Лущика: Лущик С. З. Чудо в пустыне: Одесские альманахи 1914–1917 годов // Дом князя Гагарина: Сб. науч. ст. и публикаций. Вып. 3. Ч. 1. Одесса, 2004. С. 210.].
Мысль конца прошлого века предлагала еще более решительную телепортацию – в «мир неземного благого одиночества»:
Будут тени, в бархаты одетые,
В узких лодках проплывать,
Будто серебристыми стилетами
Резать меркнущую гладь.
И на бледные немые тени я
В той Венеции – другой —
В голубом четвертом измерении
Погляжу, мой дорогой[53 - Чиннов И. Пасторали. Париж, 1976. С. 57.].
Но и время венецианское подвержено метаморфозам[54 - См., например, о клише «остановившееся время»: Смирнов Г. «Венецию любят только иностранцы» // Известия. 2003. 10 сентября.]. Как пересказывал блоковское стихотворение «Холодный ветер от лагуны…» один из блоковедов,
«Путешественник» здесь перевоплощается не в персонаж истории, не в возможного на этом же месте человека прошлого <…> но в персонаж, уже изображенный, претворенный культурой: в мифологического героя, участвовавшего в сюжете культуры – живописи, скажем. В произведении получается как бы несколько пластов: мифологический герой, отражавший некие черты жизни, уже в мифе получал исторически определенное обобщение, идейную обработку. Далее миф использовался культурой другой эпохи, итальянским Возрождением. Наконец, есть третье, сегодняшнее его восприятие: современным человеком, который, как пояснял Блок в прозе, принес с собой, в своем восприятии другую страну и другую историю, Россию эпохи черной реакции после первой русской революции. Необычайной смелостью отличается здесь художественный «ход» Блока: «проходящее лицо», «путешественник» перевоплощается тут в героя того жизненного сюжета, который находится в «начале начал», переходит в «жизненное ядро», лежащее где-то еще за гранями даже самого мифа. Далее следует, в порядке истории, сначала эпоха мифа, потом Ренессанс, потом современность. Блок как бы крутит киноленту, зафиксировавшую все эти этапы истории, с конца к началу, обратным ходом, самым простым и откровенным образом отождествив лирическое «я» с мифологическим Иоканааном[55 - Громов П. А. Блок, его предшественники и современники. М.; Л., 1966. С. 362–363.].
Чаяние «мирсконца», реверсивного времени (как и метемпсихоза – в третьем блоковском стихотворении из цикла «Венеции») – признак русской культуры 1910?х годов. «Все шло обратно, как всегда бывает во сне», – говорится в прозе Мандельштама о Северной Венеции, в «Египетской марке», и этим слово найдено.
Встает туманный град в дали завороженной,
Как гордой памяти неусыпимый сон… —
говорит Вячеслав Иванов. И Константин Бальмонт, побывавший в Венеции в 1897 году и видавший там такое, что иному поэту, которому по-некрасовски «мерещится всюду драма», послужило бы материалом для стихов[56 - Например, он отправился на Сан Серволо к сумасшедшему дому, описанному в поэме Шелли: «…я приплыл в гондоле, взглянуть на это убежище живых, выброшенных из жизни, лицо, более всех поразившее меня, было исступленное лицо молодой красивой итальянки, которая, стоя на решетчатом окне, с бешенством без конца выкрикивала повесть, как он ее бросил» (Шелли. Полное собрание сочинений в переводе К. Д. Бальмонта. Новое трехтомное переработанное издание. Т. 2. СПб., 1904. С. 581–582).], специальных стихотворений в Венеции, насколько нам известно, не написал, предпочитая встречи с ней во снах:
В окутанной снегом пленительной Швеции
На зимние стекла я молча глядел,
И ярко мне снились каналы Венеции,
Мне снился далекий забытый предел.
<…>
И снова, как прежде, звеня отголосками,
Волна сладкозвучно росла за волной,
И светлые тени, подъятые всплесками,
На гондолах плыли под бледной Луной[57 - Бальмонт К. Тишина. Лирические поэмы. СПб., 1898. С. 35. Впрочем, в обзорном сонете «Италия» упоминаются в перечислении «Неаполь, шабаш солнца неизменный, / Флоренция, лазурный серафим, / Венеция, где страстью дух палим, / А живопись – цвет золота нетленный» (Бальмонт К. Два сонета к Италии // Утро России. 1917. № 24. 24 января. С. 2).].