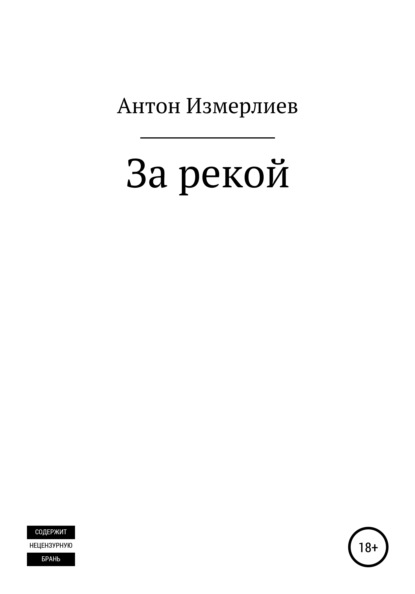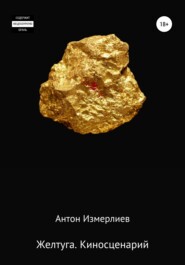По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
За рекой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
За рекой
Антон Аркадьевич Измерлиев
Старый барон и его юный друг-поэт едут собирать подать с крестьянской деревушки. Содержит нецензурную брань.
Антон Измерлиев
За рекой
«Мой юный друг», – барон сделал глоток и передал флягу мне, – «Неужели закованные в железо болванчики, размахивающие мечами, вся кровь, резня и зверства этой, так называемой, священной войны достойны внимания поэта? Пусть неотесанный солдафон слагает вирши о погромах и грабежах, пусть другие солдафоны, налакавшись эля, распевают их шлюхам, но Вы! Автор великого «Полночного ветра»! Вам, право, не пристало воспевать бойни. Оставьте их мясникам от литературы», – барон тонко улыбнулся собственному острословию.
«Мой мальчик, как ваш наставник и старший товарищ, говорю Вам – грех, грех растрачивать такой силы поэтический дар на подобное. Пишите о любви, о благородном одиночестве, о духовном изыскании просвещённого человека, наконец. Как у Вас там было? – «Мысль скакуном земные путы рвет» … И это в шестнадцать лет! Гениально, ге-ни-ально! Ах, пейте же вино, мой мальчик, пейте! Оно, право, чудесное!»
Я отхлебнул из фляги. Терпкое, крепкое, слегка отдающее орехом вино прокатилось по горлу и мягкой теплотой разлилось внутри. Промокшее серое небо низко нависало над выцветшим осеннем полем. В грязевых лужах плавала павшая листва. Холодный въедливый ветер задувал порой со стороны реки. Мы бы продрогли хуже собак, если б не вино.
«Но разве, мой лорд», – продолжил я разговор, – «Воинская доблесть и мужество, презрение к смерти, готовность не раздумывая отдать жизнь за народ и Отечество – разве это не достойно памятника в виде стиха или поэмы?»
Барон засмеялся.
– Мой мальчик, не обижайтесь, но что Вы знаете о войне? Пировать и читать стихи в шатре маршала – это совсем не то же самое, что сходиться с неприятелем в рукопашной или брать штурмом крепость»
При упоминании пирушки в шатре маршала я густо покраснел. Это был мой единственный выезд на фронт.
«О, простите мне мою бестактность, мой юный друг», – барон примирительно тронул меня за плечо, – «Я ни в малейшей степени не хотел вас уязвить. Я только лишь хочу сказать, что война – это вовсе не то, что Вы о ней вообразили. Война – это человек, что ползет и волочет по земле собственные кишки, как невеста шлейф свадебного платья. Война – это рыцарь, который обгадился перед смертью и лежит в своих изукрашенных доспехах, воняя дерьмом. А поле битвы в жаркий летний день! Мой мальчик, кто знает, чем пахнет такое поле, тот не говорит о доблести и мужестве. Да и об Отечестве тоже. Вы всерьез считаете, что люди воюют за какие-то там Отечества? Когда правителю нужны земли соседа, он созывает лордов. Уверяю Вас, правитель не говорит им об Отечестве. Он обещает лордам золото, титулы и наделы. Лорды созывают лордов помельче и обещают им то же самое. А вот когда очередь доходит до смердов, тут уже и вспоминают о доблести, мужестве, долге и Отечестве. Хотя все отечество смерда – это его лачуга и хлев со свиньей. Но он идет защищать «отечество», чтобы не быть вздернутым на первом же суку как предатель и дезертир. Смерда будят с утра брань и кулаки сержанта, смерд хватает копье и идет убивать других смердов. Его рубят, колют, топчут конями, льют на него кипящую смолу с городских стен. Он недоедает, недосыпает, болеет кровавым поносом, чумой, оспой. Если смерд выживет, то вернется домой без гроша в кармане или с горстью жалких побрякушек, потому что добычу заберет лорд. И, чтобы не сойти с ума от бессмысленно отданной жизни, смерд сам начинает верить сказке про мужество, доблесть и Отечество. Вот и вся ваша Священная война, мой мальчик – жажда наживы одних, невежество и бессилие других. Стоит ли слагать стихи об этом?»
Мы помолчали, слушая ветер.
«Отечество…», – с презрением, будто не сказал, а выплюнул, повторил барон, – «Вот, полюбуйтесь на это самое «отечество».
Он махнул рукой в направлении солдат, что стояли поодаль. Солдаты зевали, сквернословили и то и дело смачно схаркивали в грязь.
«И вон там – «отечество», – барон ткнул пальцем в сторону деревни. Убогие, крытые тростником хижины, торчали из грязи будто болотные кочки. Крестьяне сбились в кучу прямо посреди улицы. Даже отсюда я видел, как они истощены и оборваны. Недород особенно сильно ударил по этим краям.
«Вам, наверное, не терпится их воспеть?», – с улыбкой спросил барон.
Я промолчал.
«Ничего, мой мальчик», – он покровительственно похлопал меня по руке, – «В молодости и я жил теми же заблуждениями. Вы переживете их и подарите миру стихи, которые затмят и «Полночный ветер», и поделки всех ваших собратьев по перу», – от отсалютовал мне флягой и выпил.
Я благодарно склонил голову.
«Ах, да», – барон посмотрел на солнце, что тусклым размытым пятном просвечивало сквозь серые облака, – «Пора начинать, если хотим успеть в замок к ужину. Уилсон!»
Сержант, уже немолодой, с грубым обветренным лицом, похожим на деревянную маску, возник будто из-под земли.
«Да, мой лорд», – проскрипел он, уставившись на нас водянистыми, ничего не выражающими глазами.
«Значит так», – барон на миг задумался, – «Недоимки собрать, бунтовщиков научить почтению. Резню не устраивать, так – сожгите пару домишек, накажите пару смердов».
«Слушаюсь, мой лорд».
Сержант трусцой побежал к солдатам, на ходу выкрикивая команды. Вскоре отряд, как ёж ощетинясь остриями алебард, вошел в деревню. Мы подъехали ближе.
«Ты, ты, ты и ты – перекроете дорогу с обоих концов. Если хоть мышь мимо вас проскочит – спущу шкуры. Шевелитесь, ублюдки! Вы – обшарить дома, все ценное – сюда. У кого в карманах затеряется хоть грош – отрежу член и скормлю свиньям. Остальные со мной охраняют этих», – сержант небрежно махнул рукой в сторону крестьян.
Солдаты рассыпались по улице. Они по двое забегали в хижины и вскоре выныривали с ворохом тряпья, бедной кухонной утварью, скудными припасами. Все, кроме еды, швыряли на дорогу, в общую кучу. Крестьяне стояли молча, опустив глаза в землю.
Сержант оглянулся на барона. Барон кивнул, и он выступил вперед, встав перед крестьянами почти вплотную.
«Кто из вас подбивал остальных на бунт и неповиновение? Кто подучил утаить подать?», сержант обвел толпу взглядом. Крестьяне опустили головы еще ниже, казалось, они готовы уткнуться лицами в грязь, лишь бы не встречаться с ним глазами.
«Молчим», – хмыкнул сержант, – «Арбалетчики!»
Пятеро солдат, с изготовленными к стрельбе арбалетами, вышли вперед.
«Я спрошу еще раз», – сержант говорил медленно и терпеливо, будто объяснял что-то ребенку, – «кто зачинщик бунта? Если не получу ответа, эти ребята», – он указал на арбалетчиков, – «дадут по вам залп. Тех, кто вздумает побежать, я загоню в ближайшую хижину и сожгу с ней вместе. Кто подбивал остальных на бунт и неповиновение? Кто подучил утаить подать?»
«Да нет у нас ни гроша, шлюхин ты сын!», – неожиданно заорал невысокий рыжий мужик, – «Зерно почти все погнило на корню, как будто ты сам не знаешь!»
«Зачинщик бунта найден», – невозмутимо объявил сержант.
– Взять его!
Двое солдат подскочили к рыжему и выволокли из толпы. Женщина с грязными спутанными волосами цвета соломы, плача, бросилась следом. Один из солдат, не оглядываясь, ударил ее наотмашь, и она с воем рухнула в грязь.
Рыжего поставили на колени, двое солдат взяли его за руки, третий наступил сзади на ноги. Сержант взял протянутую кем-то алебарду, примерился, сделал пробный замах. Потом алебарда взлетела вверх, замерла на миг и со страшной силой рухнула вниз. Лезвие с чавканьем врубилось между шеей и плечом рыжего, выбросив в воздух пригоршню темных брызг. Солдаты, что держали рыжего, отошли в стороны. Сержант рывком освободил алебарду и тело упало лицом вперед. Женщина с соломенными волосами завопила жутко, истошно, как умирающее животное. Слышать ее было невыносимо.
Сержант подал знак. Солдат подбежал к ней, ударом сапога опрокинул навзничь. Потом сделал выпад алебардой как копьем, вогнал острие ей в грудь. Вопль превратился в хрип. Он навалился на древко, загоняя наконечник еще глубже. Женщина выгнулась дугой, навстречу острию. На ее губах надулся и лопнул кровяной пузырь, забрызгав лицо красным.
«Вот так, мой мальчик», – с сожалением произнес барон, вновь прикладываясь к фляге, – «Родятся в грязи, в ней же и дохнут».
«А эти…», – он мотнул головой в сторону сержанта, – «Из таких же деревень, но убивают своих собратьев, стоит мне пальцами щелкнуть. И вот о таком скоте стихи слагать?»
Мы выпили еще вина.
«Все равно», – сказал я, – «мне жалко их. Как там вы говорили? – рождаются в грязи и умирают в грязи? Разве человек должен жить так? В голоде и нищете, без возможности прикоснуться к высокому искусству? Как это печально, мой лорд…»
«Печально», – согласился барон, – «, впрочем, нищенствуют и голодают они только из-за того, что тупы и ленивы. Что до искусства, то приобщать к нему смердов – это как кормить свинью пирожным – помои ей будут больше по душе. Но ваше сострадание к ним, мой юный друг, делает вам честь. Только воистину благородная душа способна на столь возвышенное чувство».
Солдаты закончили обыски и стояли возле горы вещей, ожидая приказов. Я смотрел на них, принужденных убивать и грабить своих ближних, на крестьян, иссушенных постоянными лишениями и жалость, перемешанная с вином, переполняла меня. Хотелось что-то сделать для этих несчастных, но я не знал что.
Одно лицо в толпе привлекло мое внимание. Девочка, не старше четырнадцати, с чистым милым лицом, так выделяющимся среди прочих. У меня приятно заныло в паху. Я наклонился к барону и зашептал ему на ухо.
Он выслушал и оглушительно расхохотался:
– Ах, молодость! Откуда Вы только находите силы? Уилсон! Мой друг хочет побеседовать вон с той девчонкой.
Сержант кивнул. Он выдернул девочку из толпы и за руку подвел к нам. Отца и мать, бросившихся за ней, солдаты избили древками алебард. Сержант обшарил девочку с ног до головы – искал нож. Она смирилась со своей участью и стояла с отрешенным лицом, даже когда его красные лапищи шарили под юбкой.
«Все в порядке, мой лорд», – доложил сержант.
Антон Аркадьевич Измерлиев
Старый барон и его юный друг-поэт едут собирать подать с крестьянской деревушки. Содержит нецензурную брань.
Антон Измерлиев
За рекой
«Мой юный друг», – барон сделал глоток и передал флягу мне, – «Неужели закованные в железо болванчики, размахивающие мечами, вся кровь, резня и зверства этой, так называемой, священной войны достойны внимания поэта? Пусть неотесанный солдафон слагает вирши о погромах и грабежах, пусть другие солдафоны, налакавшись эля, распевают их шлюхам, но Вы! Автор великого «Полночного ветра»! Вам, право, не пристало воспевать бойни. Оставьте их мясникам от литературы», – барон тонко улыбнулся собственному острословию.
«Мой мальчик, как ваш наставник и старший товарищ, говорю Вам – грех, грех растрачивать такой силы поэтический дар на подобное. Пишите о любви, о благородном одиночестве, о духовном изыскании просвещённого человека, наконец. Как у Вас там было? – «Мысль скакуном земные путы рвет» … И это в шестнадцать лет! Гениально, ге-ни-ально! Ах, пейте же вино, мой мальчик, пейте! Оно, право, чудесное!»
Я отхлебнул из фляги. Терпкое, крепкое, слегка отдающее орехом вино прокатилось по горлу и мягкой теплотой разлилось внутри. Промокшее серое небо низко нависало над выцветшим осеннем полем. В грязевых лужах плавала павшая листва. Холодный въедливый ветер задувал порой со стороны реки. Мы бы продрогли хуже собак, если б не вино.
«Но разве, мой лорд», – продолжил я разговор, – «Воинская доблесть и мужество, презрение к смерти, готовность не раздумывая отдать жизнь за народ и Отечество – разве это не достойно памятника в виде стиха или поэмы?»
Барон засмеялся.
– Мой мальчик, не обижайтесь, но что Вы знаете о войне? Пировать и читать стихи в шатре маршала – это совсем не то же самое, что сходиться с неприятелем в рукопашной или брать штурмом крепость»
При упоминании пирушки в шатре маршала я густо покраснел. Это был мой единственный выезд на фронт.
«О, простите мне мою бестактность, мой юный друг», – барон примирительно тронул меня за плечо, – «Я ни в малейшей степени не хотел вас уязвить. Я только лишь хочу сказать, что война – это вовсе не то, что Вы о ней вообразили. Война – это человек, что ползет и волочет по земле собственные кишки, как невеста шлейф свадебного платья. Война – это рыцарь, который обгадился перед смертью и лежит в своих изукрашенных доспехах, воняя дерьмом. А поле битвы в жаркий летний день! Мой мальчик, кто знает, чем пахнет такое поле, тот не говорит о доблести и мужестве. Да и об Отечестве тоже. Вы всерьез считаете, что люди воюют за какие-то там Отечества? Когда правителю нужны земли соседа, он созывает лордов. Уверяю Вас, правитель не говорит им об Отечестве. Он обещает лордам золото, титулы и наделы. Лорды созывают лордов помельче и обещают им то же самое. А вот когда очередь доходит до смердов, тут уже и вспоминают о доблести, мужестве, долге и Отечестве. Хотя все отечество смерда – это его лачуга и хлев со свиньей. Но он идет защищать «отечество», чтобы не быть вздернутым на первом же суку как предатель и дезертир. Смерда будят с утра брань и кулаки сержанта, смерд хватает копье и идет убивать других смердов. Его рубят, колют, топчут конями, льют на него кипящую смолу с городских стен. Он недоедает, недосыпает, болеет кровавым поносом, чумой, оспой. Если смерд выживет, то вернется домой без гроша в кармане или с горстью жалких побрякушек, потому что добычу заберет лорд. И, чтобы не сойти с ума от бессмысленно отданной жизни, смерд сам начинает верить сказке про мужество, доблесть и Отечество. Вот и вся ваша Священная война, мой мальчик – жажда наживы одних, невежество и бессилие других. Стоит ли слагать стихи об этом?»
Мы помолчали, слушая ветер.
«Отечество…», – с презрением, будто не сказал, а выплюнул, повторил барон, – «Вот, полюбуйтесь на это самое «отечество».
Он махнул рукой в направлении солдат, что стояли поодаль. Солдаты зевали, сквернословили и то и дело смачно схаркивали в грязь.
«И вон там – «отечество», – барон ткнул пальцем в сторону деревни. Убогие, крытые тростником хижины, торчали из грязи будто болотные кочки. Крестьяне сбились в кучу прямо посреди улицы. Даже отсюда я видел, как они истощены и оборваны. Недород особенно сильно ударил по этим краям.
«Вам, наверное, не терпится их воспеть?», – с улыбкой спросил барон.
Я промолчал.
«Ничего, мой мальчик», – он покровительственно похлопал меня по руке, – «В молодости и я жил теми же заблуждениями. Вы переживете их и подарите миру стихи, которые затмят и «Полночный ветер», и поделки всех ваших собратьев по перу», – от отсалютовал мне флягой и выпил.
Я благодарно склонил голову.
«Ах, да», – барон посмотрел на солнце, что тусклым размытым пятном просвечивало сквозь серые облака, – «Пора начинать, если хотим успеть в замок к ужину. Уилсон!»
Сержант, уже немолодой, с грубым обветренным лицом, похожим на деревянную маску, возник будто из-под земли.
«Да, мой лорд», – проскрипел он, уставившись на нас водянистыми, ничего не выражающими глазами.
«Значит так», – барон на миг задумался, – «Недоимки собрать, бунтовщиков научить почтению. Резню не устраивать, так – сожгите пару домишек, накажите пару смердов».
«Слушаюсь, мой лорд».
Сержант трусцой побежал к солдатам, на ходу выкрикивая команды. Вскоре отряд, как ёж ощетинясь остриями алебард, вошел в деревню. Мы подъехали ближе.
«Ты, ты, ты и ты – перекроете дорогу с обоих концов. Если хоть мышь мимо вас проскочит – спущу шкуры. Шевелитесь, ублюдки! Вы – обшарить дома, все ценное – сюда. У кого в карманах затеряется хоть грош – отрежу член и скормлю свиньям. Остальные со мной охраняют этих», – сержант небрежно махнул рукой в сторону крестьян.
Солдаты рассыпались по улице. Они по двое забегали в хижины и вскоре выныривали с ворохом тряпья, бедной кухонной утварью, скудными припасами. Все, кроме еды, швыряли на дорогу, в общую кучу. Крестьяне стояли молча, опустив глаза в землю.
Сержант оглянулся на барона. Барон кивнул, и он выступил вперед, встав перед крестьянами почти вплотную.
«Кто из вас подбивал остальных на бунт и неповиновение? Кто подучил утаить подать?», сержант обвел толпу взглядом. Крестьяне опустили головы еще ниже, казалось, они готовы уткнуться лицами в грязь, лишь бы не встречаться с ним глазами.
«Молчим», – хмыкнул сержант, – «Арбалетчики!»
Пятеро солдат, с изготовленными к стрельбе арбалетами, вышли вперед.
«Я спрошу еще раз», – сержант говорил медленно и терпеливо, будто объяснял что-то ребенку, – «кто зачинщик бунта? Если не получу ответа, эти ребята», – он указал на арбалетчиков, – «дадут по вам залп. Тех, кто вздумает побежать, я загоню в ближайшую хижину и сожгу с ней вместе. Кто подбивал остальных на бунт и неповиновение? Кто подучил утаить подать?»
«Да нет у нас ни гроша, шлюхин ты сын!», – неожиданно заорал невысокий рыжий мужик, – «Зерно почти все погнило на корню, как будто ты сам не знаешь!»
«Зачинщик бунта найден», – невозмутимо объявил сержант.
– Взять его!
Двое солдат подскочили к рыжему и выволокли из толпы. Женщина с грязными спутанными волосами цвета соломы, плача, бросилась следом. Один из солдат, не оглядываясь, ударил ее наотмашь, и она с воем рухнула в грязь.
Рыжего поставили на колени, двое солдат взяли его за руки, третий наступил сзади на ноги. Сержант взял протянутую кем-то алебарду, примерился, сделал пробный замах. Потом алебарда взлетела вверх, замерла на миг и со страшной силой рухнула вниз. Лезвие с чавканьем врубилось между шеей и плечом рыжего, выбросив в воздух пригоршню темных брызг. Солдаты, что держали рыжего, отошли в стороны. Сержант рывком освободил алебарду и тело упало лицом вперед. Женщина с соломенными волосами завопила жутко, истошно, как умирающее животное. Слышать ее было невыносимо.
Сержант подал знак. Солдат подбежал к ней, ударом сапога опрокинул навзничь. Потом сделал выпад алебардой как копьем, вогнал острие ей в грудь. Вопль превратился в хрип. Он навалился на древко, загоняя наконечник еще глубже. Женщина выгнулась дугой, навстречу острию. На ее губах надулся и лопнул кровяной пузырь, забрызгав лицо красным.
«Вот так, мой мальчик», – с сожалением произнес барон, вновь прикладываясь к фляге, – «Родятся в грязи, в ней же и дохнут».
«А эти…», – он мотнул головой в сторону сержанта, – «Из таких же деревень, но убивают своих собратьев, стоит мне пальцами щелкнуть. И вот о таком скоте стихи слагать?»
Мы выпили еще вина.
«Все равно», – сказал я, – «мне жалко их. Как там вы говорили? – рождаются в грязи и умирают в грязи? Разве человек должен жить так? В голоде и нищете, без возможности прикоснуться к высокому искусству? Как это печально, мой лорд…»
«Печально», – согласился барон, – «, впрочем, нищенствуют и голодают они только из-за того, что тупы и ленивы. Что до искусства, то приобщать к нему смердов – это как кормить свинью пирожным – помои ей будут больше по душе. Но ваше сострадание к ним, мой юный друг, делает вам честь. Только воистину благородная душа способна на столь возвышенное чувство».
Солдаты закончили обыски и стояли возле горы вещей, ожидая приказов. Я смотрел на них, принужденных убивать и грабить своих ближних, на крестьян, иссушенных постоянными лишениями и жалость, перемешанная с вином, переполняла меня. Хотелось что-то сделать для этих несчастных, но я не знал что.
Одно лицо в толпе привлекло мое внимание. Девочка, не старше четырнадцати, с чистым милым лицом, так выделяющимся среди прочих. У меня приятно заныло в паху. Я наклонился к барону и зашептал ему на ухо.
Он выслушал и оглушительно расхохотался:
– Ах, молодость! Откуда Вы только находите силы? Уилсон! Мой друг хочет побеседовать вон с той девчонкой.
Сержант кивнул. Он выдернул девочку из толпы и за руку подвел к нам. Отца и мать, бросившихся за ней, солдаты избили древками алебард. Сержант обшарил девочку с ног до головы – искал нож. Она смирилась со своей участью и стояла с отрешенным лицом, даже когда его красные лапищи шарили под юбкой.
«Все в порядке, мой лорд», – доложил сержант.