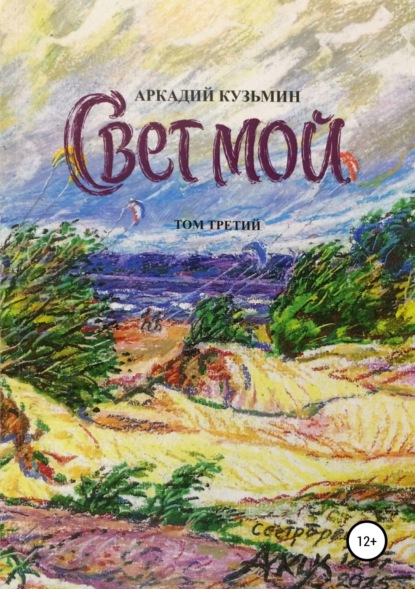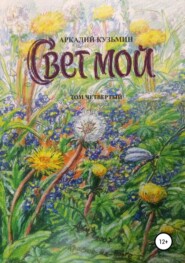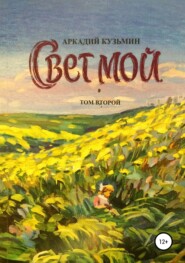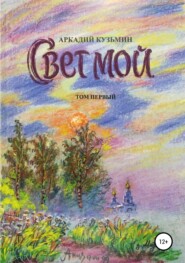По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Свет мой. Том 3
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Отчего же?
– Бог их знает, этих женщин, что у них на уме. Невзлюбила отчего-то Настю. – Манюшкин, стоя, загляделся в окно и тонкими пальцами выстукивал по подоконнику: кажется, его внимание привлекла идущая по двору молодая разодетая паненка.
– И знаете, я сейчас туда пойду, – совершенно твердо решился Антон. – Я хоть ей помогу. Нельзя же ей, действительно, одной…
И с бешено колотящимся сердцем, готовым выпрыгнуть из груди, шагнул от него на улицу, даже не дожидаясь какого-либо разрешения: считал, что это было правильно, естественно для мужчины.
К счастью, тут же повстречал сутуловатого старшину Абдурахманова и, еле переводя дыхание, сказал ему, что с согласия начальства временно поработает на кухне, пока Петров в госпитале. Как? Идет? К лошадям приставь кого-нибудь сидячего. Ей-право.
Смешной старшина! Он почесал в затылке, поморгал своими подслеповатыми глазами и обрадовался вроде, так как за кормление наличного состава части отвечал он в первую очередь:
– Екши. Екши. Давай. Молодец! – И пожал Антону руку.
Как бывает, все устроилось само собой; осложнений не возникло никаких. Напротив! Настя несказанно обрадовалась его добровольному приходу к ней на помощь, разрумянилась и повеселела. А особенно доставляло ему удовлетворение то, что этому не меньше радовались за обедом все его друзья, увидев его снова за живой работой. Главное, он видел, что от этого его престиж нисколько не упал – он только повысился среди сослуживцев.
V
Рядом с пристройкой, где обосновалась кухня, темнел сарай; в нем хранилась рожь – лежаток. Каждый день, выволакивая из него ржаные снопы, старая одинокая полька с задубевшим лицом и руками, обтянутым тонкой, словно прозрачной кожей, медленно и мучительно бельевым вальком вымолачивала их, ползая на коленях. Кашин всегда в свободные минуты подходил к ней на ток и помогал молотить. И, естественно, удивлялся ее такому способу молотьбы. Она, как молодая, интересовалась решительно всем, что делалось в России. И высказывала ему только боязнь, такую, что если теперь и в Польше колхозы будут, то она не сможет работать наравне со всеми: вон валек уж валится из рук.
– Да, но это ж в вашей власти – как будете вести свое хозяйство, – говорил он ей. – Вы ведь хозяева себе.
И она сказала, что нема хозяев. На войне погибли все. Фашисты загубили.
После ужина Антон опять вознамерился подсобить старухе, так как все равно ему некуда было пойти. В последние дни он был совсем один – не с кем поделиться чем-нибудь, поговорить. Он почти не чувствовал ничьей дружеской поддержки, потому испытывал все-таки тоску. Только вдруг его загадочно позвал к себе некрасивый солдат Вадим Казаков, тихо служивший в первом отделе. Он как раз начищал свои сапоги у дома, стоявшего наискоски через улицу, и делал это, как всегда, с редким самозабвением.
Антон немного подождал, пока он разогнется над скамейкой. И поскольку, не был дружен с ним, озадаченно спросил:
– Ну, зачем ты звал?
– Садись – посиди, – пригласил он. – Я сейчас… Только щетки кину на крыльцо. – И вернулся к нему, не то улыбаясь глуповато, не то ухмыляясь отчего-то. Опустился первым на скамейку. – Ну, садись.
– А зачем? – все еще сопротивлялся Антон.
– Так сейчас сюда придут девчонки польские. Вот чудак! – он как будто нуждался в нем, его присутствии.
– Это что же… на свидание? – Антон, пораженный, поглядел по-новому на него, на его гладкое лицо, пытаясь для себя определить его неопределенный возраст. Сколько ж лет ему? Двадцать пять или сорок?
Он его до крайности заинтриговал. Антон подсел к нему.
Но когда сюда явились две розовощекие паненки лет по тринадцать, в чистеньких белых кофточках и коротких плиссированных юбках, когда они, чересчур подвижные и шумливо развязные, срывали разлапистые листья каштана, и кидали их за ворот гимнастерки Вадиму и Антону, пищали и ахали, – Антон еще сильнее почувствовал себя опустошенно, участвуя в такой постыдной игре. Взрослый же Казаков принимал это нормально, даже старался резвиться тоже. Антон либо еще ничегошеньки не понимал в свиданиях, либо просто у него было не такое уж податливое настроение. Так оно и не улучшилось.
– Слушайте, пойдем-ка лучше туда, – предложил он, кивнув в сторону соснового бора.
Русая полечка согласилась. Вскочила со скамьи, запрыгала.
– Там летчики. Кино посмотрим.
– «Жди меня»? Добже. Глядели мы. И я.
И смеялась она, легкая, как бабочка, противная полечка:
– А ты, Антон, жди меня?
Ее подружка прыснула со смеху, зажала рот ладошкой.
– Жду, – сказал Антон, веселея. – Что еще ты скажешь мне?
И тут увидел на противоположной стороне улицы сутуловато-щуплого Назарова, спешащего с вещмешком за плечами, и кинулся ему навстречу:
– Вы?! Голубчик вы мой!.. А я было заждался вас совсем. Как вы долго!..
Кроткие глаза солдата засветились как-то молодо и радостно:
– Отчего ж заждался?
– Да, случилось так. Потом поговорим, да? Сейчас, как видите, я не один…
– Обязательно, сынок. Уж я-то подлечился малость.
– А поправились хотя бы?
– Вроде бы из кулька в рогожку, – тихо засмеялся он. – Но отлежался чуток. Полегчало. Здесь и повар наш пораненный лежит. Говорит: еще несколько деньков уйдет на поправку.
– Ой, как хорошо, голубчик мой… – говорил Антон, видя, как этот пожилой человек моментально почувствовал, видно, прилив сил оттого, что он мог кого-то любить, и держась за рукава его старенькой гимнастерки. – Ну, пойду.
Антон и Вадим вместе с юными паненками, трещавшими без умолку, шли по белостокской улице, и прохожие поляки поглядывали осудительно на них, когда их догнали Люба и Петр Коржев, направлявшиеся также к бору. Поздоровались друг с другом:
– Привет!
– Привет!
– Когда же к нам в отдел вернешься, Антон? – спросила Люба.
– Еще, должно быть, пару дней Насте помогу… – ответил он серьезно.
Она неожиданно остановилась и застыла, тревожно глядя вглубь палисадника. Проговорила:
– Не здесь ли поджидала Хоменко смерть?
И сколько еще жизней людских унесет война, желание и нежелание быть свободным?
Сердце у Антона сжалось.
VI
«Уж лучше все-таки я пойду, пойду, спокойно спущусь в метро и спокойно же поеду домой – решил Антон Кашин, – чем буду ждать-поджидать на сей остановке появления неведомой маршрутки; видит бог: у меня-то нет ни лишней минутки ни на что, кроме, естественно, писания картин красочных, домашних, желанно приемлемых, и возни с ними на выставках, делаемых для людей неравнодушных и приветливых. Оттого и не стыжусь ничуть дел своих, удовлетворенный этим своим подвижничеством. По всякому не бесполезный еще тип для общества. По крайней мере небо не копчу, отнюдь…» – И так вступил в людской поток, движимый толпой и устремленный к гладким ступенькам станции «Василеостровская». И подумал дальше: «Вон впереди меня молодежь, не зная никаких печалей творческих, – с пожизненной соской – культуромобильничает на ходу в свое удовольствие… Все доступно… Не то, что раньше. Репортер сегодня спросил у меня, как я стал художником? А так и стал – непонятным себе образом… Да отчего ж ты все-таки самолично иной раз не можешь ни за что предугадать свои желания, а проявляя их, поступаешь только как бы по наитию – поступаешь в чрезвычайных обстоятельствах, складывающихся для себя безоговорочно, непредугаданно, не зная исхода этого, не думая о том, и действуешь вслепую, спонтанно или стихийно, или будто некий путеводчик твой диктует тебе то, что ты должен сейчас сделать и даже будто ведет тебя за руку целенаправленно и говорит уверенно: «Иди и поступи вот так! А главное, верь сердцу своему! Делай все не вопреки ему!»
Это-то совсем-совсем не зря. Человечество бередит мнимым геройством. Тиражирует картинки извращений, насилия, непристойностей. Разум зашкаливает. Герои из шкуры хотят выпрыгнуть голышом…