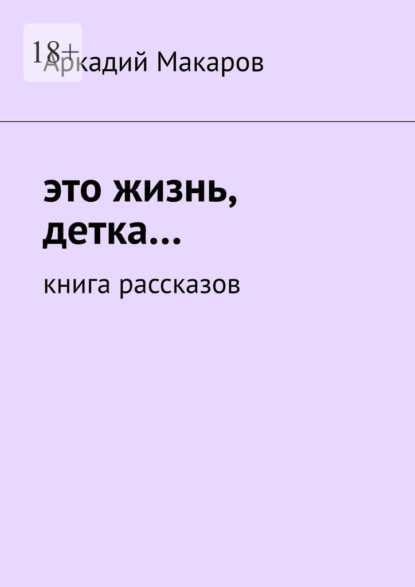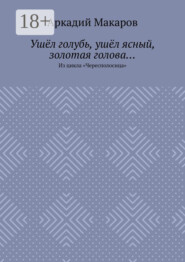По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Это жизнь, детка… Книга рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
К вечеру Петр Петрович захорошел, домой собрался, встал – пошатывается. Усы подкручивает.
Братья ему еще «на посошок» наливают:
– Внедри! Не чужие ведь!
Дверь-калиточку отворили – «Иди! Иди! Не спотыкайся!»
Запозднился Петр Петрович. Ночь, как яма провальная. Ступить ногой некуда. Споткнулся о жердину невесть откуда взявшуюся на дороге. «Мать-перемать!» Упал. Но встать ему уже не пришлось. Блеснули в глазах брызги огненные, как залп корабельной пушки – и все. Глухо.
Евдокия к этому времени корову подоила, по дому управилась:
«Пойду к Бажулиным, что-то хозяина долго нет?»
Пришла. Братья у рукомойника руки полощут.
– Был Петр Петрович у вас?
– Был.
– Пили?
– Пили.
– Когда ушел?
– Да, вот, только ушел.
Пошли искать вместе. Керосиновой фонарь прихватили: в ночи прорехи делать. Идут по дороге – батюшки! В лохмотьях света вот он – Петр Петрович кровью улитый распластался на дороге – не пройти. Как у себя дома. Подхватили за руки, за ноги, принесли в дом к Евдокии. Положили на пол, как мешок с картошкой. Тяжел черт!
– Ничего, Евдокия! Протрезвеет к утру, как новый будет, – смеются.
Не протрезвел Петр Петрович. Мычать стая только на вторую неделю. Кого виноватить? Кому жаловаться! Шел пьяный, упал, проломил голову, а обо что проломил, в темноте разве разглядишь? Ночи-то – глаз выколешь!
Братья теперь почему-то ласковы стали. Помощь предлагают. Дров на две зимы привезли. «Топи Евдокия! Зимы-то теперь ужас, какие морозные».
Денег сколько-нисколько, а дали. Родня все-таки! Лечи Петруху, может, очухается! Да разве деньгами вылечишь.
Кормила Евдокия Петра Петровича, как малого ребенка. Сам он запамятовал, где рот находиться, куда кашу класть. Возьмет ложку, зачерпнет из блюда, и сует ее то в глаз, то в щеку тычет, рта не найдет. Мучается. Бросил ложку. Мычит, корми, мол, Евдокия сама. И плачет, и плачет. Ходить совсем не мог. Перевернет она его на постели, а он опять мычит. На двор хочет. Мужик неподъемный, за сто килограмм потянет. Боров, а не мужик.
Мучается Евдокия, а плакать – не плачет. А, как будешь плакать, коль такой груз свалился! Дети: «Папаня, папаня!», а он, – вроде, как чужие ему, глаза не поворачивает, смотрит куда-то вдаль, вроде, манят его оттуда…
«Ну, ничего, – это она мне так рассказывала – Господь навстречу пошел. Убрался мой Петр Петрович к весне. Я его обрядила во все флотское, как он любил. Еще неношеное в сундуке лежало, от царя запасец. Братья Бажулины пришли. Народишко собрался. Вздыхают: „Ить, какой конь был!“ Хоронили без попа. Коммунист все-таки. Да и где они попы в энто время, когда церква все порушили. У нас в Сатинке одна стояла, да и ту два раза взрывали, обкусали всю с боков-то, а она стоит, только ветер скрозь ее гудет недовольно. Осталась я одна с Колей да Лизаветой. Живу – куда денешься! Тяжело. Хозяйство неподъемное все в одних руках бабьих».
Другую зиму Евдокия кое-как проводила, а на весну ее испуг взял. Вышла в поле – матушки! Земля, как женщина, ждать не может. Её обихаживать надо, а у Евдокии только две руки, да двое птенцов желторотых, шеи тянут, хлебца-молочка просят, галдят, за юбку держатся – не ворохнется, как два крыла перебитых. На диверьев какая надежа! Всяк в свой карман лезет. Да и деверьям туго стало, скотинку, правда, успели порезать, а зернышки все пришлось до единой в колхоз под будущий урожай ссыпать. Прав был брательник их, покойный Петр Петрович, колхозная жизнь началась, веселая, как поминки.
Евдокия тоже к колхозу прислонилась: не дадут люди ей с ребятишками с голоду помереть. Председатель колхоза пришлый, картавый, партией мобилизованный, топчется в правлении, щепотью за бумаги держится, а в поле выйти боится – то ли зашибут его болезного, то ли сами со смеху по-умирают, глядя на его беспомощность.
Сеяли кое-как, а взошло и того хуже, совсем плохо, да и скотина, согнанная в один загон, тоже с непривычки слабнуть стала, под сохой спотыкается. Урожай так-на-так пришелся. Пуд пошвыряли в грязцо, пуд и взяли. Делать нечего. Бабы на пожинках голосить стали – зима – вот она, а в амбарах, еще сохранившихся от старой жизни, «мыши одне», как говорила Евдокия Петровна.
Потянулись сельчане птицами перелетными после первого снегопада на юг, в Донбасс, на шахты. Донбасс, с ударением на первом слоге, по-старинному.
Другие с мужиками, – а ей как? Колюша – еще ничего, а Лизавета совсем дите.
Сидела на месте, до самого последнего, Евдокия. Все, что можно было съесть, съели. Забила двери, окна крест-накрест досками, села, плачет. Детишки к ногам, как щенята жмутся. Перекрестилась, пошла. До станции километров пятнадцать не помнила, как шла. Очнулась в поезде. Кондуктор, дай Бог ему здоровья, да какое там здоровье, давно это было, помер, видно, сжалковался над сиротами, билета не спрашивал. Доехали…
А в Донбассе такая же проруха. Рабочие руки нипочем стали. Мужики в драку за кайло хватались, – кому выпадет инструментом завладеть. А их, счастливцев, в шахту не пускают. Народу тьма-тьмущая!
Но судьба сжалилась над Евдокией. Стоит она у конторы, плачет. Умирать не страшно, да куда детей девать? Вот они, как ромашки белые, первоцвет еще…
Вдруг из-за поворота, со стороны дымящего серой террикона, выскочил прямо на толпу, цыганистой масти, жеребец, запряженный в резную, хорошей старой выделки, бричку, обшитую вишневого цвета кожей. Бричка остановилась, танцуя на высоких рессорах. Разгоряченный жеребец недовольно задыши ноздрями, замотал головой, вероятно, не соглашаясь с возницей за столь короткую пробежку и копытя передними ногами кочковатую подмерзшую землю. Так веселый, подвыпивший шахтер топчет недокуренную цигарку, перед тем, как пуститься в пляс на потеху публике.
В бричке, ну, если говорить по-старинному, сидела барыня в черной широкополой шляпе с красным бантом, в длинной собольей шубке, купленной по случаю, наверное, еще в торгсине при НЭПе.
Барыня, бросив вожжи выбежавшему из толпы человеку, легко спрыгнула с прогнутой, как ласточкино крыло подножке, и пошла сквозь расступившийся народ к широкому, но неприветливому крыльцу конторы, где стояла, как раз Евдокия.
Лизавета, до того испуганно цеплявшаяся за юбку своей матери, почему-то выбежала на середину прогала и, остановившись, широкими глазами заворожено смотрела на красавицу барыню, загораживая ей дорогу.
Евдокия подхватила ребенка на руки и виновато наклонила голову. «Барыня», вероятно, была в хорошем расположении духа, ухватила девочку за ушко и легонько потрепала. Евдокия, слабо улыбнувшись, подошла глаза.
– Милочка, – протянула красавица, – и тебе тоже нужна работа, да?
Та с готовностью закивала головой, всем своим видом, показывая, что ей ох, как нужна любая работа, лишь бы кормили.
– Ну, что ж, – ущипнув Лизавету за бледную щечку, сказала «барыня». – Я сейчас вернусь, и мы как-нибудь с тобой поладим.
Евдокия, не веря своим ушам, благодарно закивала головой в знак согласия на любые условия.
– Спасибочки, спасибочки! Mнe – лишь бы с детками не пропасть.
Но, благодетельница, наверное, уже не слышала последних слов женщины одетой в грубую суконную одежду, она, высоко подняв голову, шагнула в услужливо открытую дверь конторы.
Жена начальника шахты Глафира Марковна, Гланя, как ее называла Евдокия, действительно была барыней, дочерью горного инженера, погибшего то ли от руки конармейца, то ли совсем наоборот. Гражданская война! Пойди, разберись – кто чей? Время трудное, гиблое. Понравилась она красному спецу, присланному из центра на подъем разрушенного шахтного края. Сказали: «Давай стране угля!» Ответил: «Дадим стране угля, хоть мелкого но… В общем, сколько спросите – столько и будет».
Красный спец Григорий Исаакович, хоть горным делом до того никогда не занимался, а хватка была пролетарская.
Правда, в пролетариях он никогда не числился, но в революцию верил свято, и без сомнения встал на сторону «проклятьем заклейменных». Интернационалист из Одессы. А в Одессе, почитай, все интернационалисты.
Приехал. Посмотрел. Остановился у Глани на постой, да так и прирос к шахтному делу. Вроде, всю жизнь не на Привозе сидел, а с кайлом и лопатой лаву нагора поднимал. Вовремя оказался в руководящем звене партии.
Уголь пошел. Рабочим, хоть руки отшибай, так и норовят рекорд поставить. А что делать, если на одного шахтера, десять в очереди стоят. В стране голод, а кушать хочется каждый день. Дело пошло. Григории Исаакович в почете. Гланя снова вкус к жизни почувствовала. Утром наряды перебирает, а после обеда, рысака в бричку и в степь донскую – душу на волю отпустить.
Любила она сама, и кататься, и править. Григорию Исааковичу некогда, он работу «планирует», то есть план делает, а детей – не выходило. Глане дома скучно, уборка, обеды, ужины ей не с руки, вот и подвернулась ей в добрый час Евдокия с детками. Девочка, ой какой пупсик!
Стоит рязанская баба, жена красного балтийца Петра Петровича в хоромах, ногами переступить бояться. Батюшки! Добра-то сколько! На все село хватит. И всюду – двери, двери, двери.
– Ты, вот что, Дуня, – говорит Глафира, – не бойся, разувайся и проходи, и детей с собой проводи. Мы не кусаемся. Комната ваша – вот здесь. А вот здесь – кухня. А вот здесь – ванная и сушилка рядом, здесь будешь стирать, а здесь готовить. Только чтобы моему Исааку, ну, Григорию Исааковичу, кушанья в угоду были. Курочка, рыба-форшмак, и все такое. Баклажаны с чесночком, он под водочку очень любит. Чистота чтобы в доме была, порядок. А детки твои и сама всегда сыта будете. Да я еще и денежки вам доплачивать буду. Ничего, Дуняша?
Господи! Какое там «ничего»! Да она и во сне такое не видала!