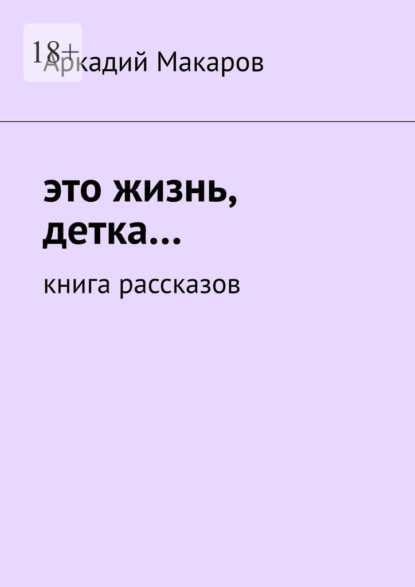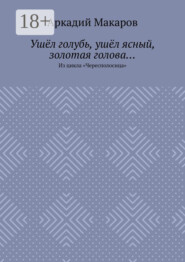По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Это жизнь, детка… Книга рассказов
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А вашему Григорию Исааковичу я угожу, угожу. Я люблю по дому возиться. Сами увидите!
Евдокия от радости не знала, куда себя и деть. Сразу за веник и щетку. Воды нагрела, Колюша ей помогал ковры на воздух выносить, чтобы они ветерка да морозца схватили, надышались. Окна смеяться стали. Солнце по крашеному полу на цыпочках ходит, осторожничает. На сковороде, да в кастрюлях ворочается, скворчит, преет. Григорий Исаакович тоже, ничего мужик, хоть и одессит природный. Не каверзничает. Ну, и что ж, что одессит – у Бога все люди.
Глафира довольна. Детям одежку справила. Евдокии со своего плеча полушубок смушкой отороченный пожаловала. «Мы, – говорит, – Дуняша, с тобой, как родные. Живи, сколько сможешь. Места всем хватит. А твоего Колечку учиться определим. У моего Исаака связи в Москве, да и парень твой смышленый. Вон из школы одни пятерка носит. А Лизонька, как дите мое».
Так и жила Евдокия Петровна в семье начальника шахты, как у Христа в ладони.
Какая по дому работа? Баловство одно! Вон из деревни пишут – голод косой прошелся, урожайная зима видалась. Считай, половина сельчан убрались. А здесь – чисто, сухо, тепло и о хлебе думать не надо. Григорию Исааковичу продукты на машине подвозят. Забирай Евдокия! Успевай готовить! Слава тебе, Господи! И Глафире Марковне тоже спасибочко – приютила.
Григорий Исаакович, ничего не скажи, покушать любил хорошо, в свое удовольствие. А почему не покушать? Щучку фаршированную так разделает, что и убирать нечего. Бывало, вложит в щучью пасть огрызок хвоста и кричит: «Петровна, что же ты не доглядела? Щука-то сама себя за хвост уцепила! Спой-ка мне Евдокия свою любимую песню!» Я и запою – «Когда б имел златыя горы…» Сидит, слушает. Потом скажет: «Что же вы, Евдокия, такие русские? Как дети. Всё – когда б, да если б. Когда бы у бабушки была борода, она бы была дедушкой». И смеется. Шутил, значит. Баклажанчики, как поросятки на тарелке. Ну, само собой, маца. Куда же ему без мацы? Гланя над ним смеется, говорит: «Чесночный ты человек, Гриша! Потому и спим мы с тобой на разных постелях.
Чудно спали. Вроде, супруги, а кровати разные. По-барски жили, по-старинному. Чин по чину. Людей в смущение вводили. А люда-то мы все завидущие. Как говориться: «Руки наш грабли, очи наши ямы. Что очи увидят, то руки загребают».
Постучали однажды тихонечко в дверь.
На дворе ночь глухая. Осень. Дождит. Кто бы это? Может родственник, какой издалека? Евдокия к двери. Человек в дом просится. Открыть надо. Григории Исаакович, как был в исподнем, так в исподнем и к ней, к Евдокии. Трясется весь. Какой-то узелок махонький в руки сует: «Возьми – говорит, – Евдокия! Тебя обыскивать не будут, какой с тебя спрос? А с меня спросят». Узелочек в щепотку одну, чего его прятать? Глянула, а там камушки радугой отсвечивают, глаза колят. Евдокия и обомлела. Никак с обыском пришли? Значит, черед подоспел. А у нее детки. Куда эти камешки задевать? Возле умывальника стакан с водой стоял. Она туда узелочек-то этот и опорожнила. «Уж, больно испугалась тогда!» – вздыхала Евдокия Петровна.
Гости оказались расторопными. Шваркнули хозяина к стенке лицом и в горницу. «Я, было, к Глаше в спальню улизнуть хотела, – рассказывала бабушка Дуня, – помочь ей собраться перед людьми лихими, служилыми. Женщина все-таки. А мне кричат: «Стоять! Ни с места!» Я так и опустилась на пол. Дурой была. Чего бояться? Не за мной ведь пришли. А пуженый заяц и куста боится. Так вот! Гляжу, Глафиру из спальни за руки выводят. Рубашка короткая, еле коленки прикрывает. На стул ее сажать стали, а она со стула сползает. Глаза сквозь стену смотрят, широкие, вроде, удивляются чему. Хлестанулась головой об пол, и лежит навзничь, потом дугой изгибаться стала. Я ей срамоту шалью, которая на мне была, кое-как прикрыла, а она дробить пол ногами начала. На губах пена, как взбитые сливки, доползла, куда красота и делась? Зубами стучит. Ощерилась. Ей красноармеец снял буденовку и шишаком в рот запихивать стал. Ну, вроде, угомонилась. Заснула, да так, что храпеть стала. Посмотрел на нее старшой, махнул рукой: «Припадочная – говорит. – А какая баба была! Ягодка!» Сидит за столом и у меня, как звать, спрашивает, и в бумагу пишет. «Я – смеется, тебя тетка и так знаю. Ты баба рязанская. Своя. Жена активиста. Понятой будешь. Да и расскажешь, как они, эти враги народа, жили? Какие разговоры вели? А, какие от меня – разговоры? Нешто они с прислугой говорить будут? – я ему толкую. – Мое дело у печки стоять, да чугуны двигать. У меня свои ребята рты разевают – когда мне прислушиваться? Не-е, мне не до разговоров. Да и богатства у них особого нет. Казенное все. А, платить мне они платили. Как же не платить? Я же у них в работниках! «Закрой рот, говорунья! А то и тебе придется туда варежку запихивать. Смотри и запоминай, что мы здесь искать будем. А потом распишешься, как по закону». Ну, и пошли шерстить все подряд. Знали, наверное, что искать. Каждую строчку в белье прощупывали. «Куда – говорят, – троцкист поганый, народные драгоценности дел? Мы, – говорят, твою задницу наизнанку вывернем. Да и у жены знаем, где искать. Сам все расскажешь».
Ох, и матерились они! Власть все-таки, имеют право. А они, камешки эти, рядом. Я дрожу вся. Как, если найдут? Вся вина на мне ляжет. Камешки в воде мокнут, а я вся потом исхожу. Скажут: «Сообщница! В кандалы!» А у меня детки за перегородкой: Колюша да Лизавета. Я на этот стакан смотреть боюсь. Один говорит: «Чего дрожишь? Это не твоего ума дело!» – и пошел к умывальнику попить. Взял стакан, у меня сердце так и ёкнуло – ну, всё! Прощай свет белый! Повертел стакан красноармеец в руках, да, видно, побрезговал. Поставил обратно. Прямо из крана и попил, как птица большеротая.
– Ты, тетка, убери здесь. Завтра сюда ОГПУ всей конторой переедет. Хорошо здесь. И кабинетов будет много – все разместятся. А хозяев твоих, кровопивцев пролетариата, мы с собой заберем. Там языки развяжем в два счета.
Григорий Исаакович хороший человек был. Угостит за столом вином сладким и говорит: «Эх, Дуня, Дуня, песня твоя широкая, да вся кончилась. Как и жизнь наша!» Да…
Евдокия Петровна, что-то вспомнив свое, вздыхает.
«Увели Григория Исааковича и Глафиру не забыли. Накинула я ей шубку на плечи. А она меня целует и плачет. «Не забывай, – говорит – Дуня свечку за упокой поставить. Григорий Исаакович, хоть и еврей, а русский человек. Да и за меня помолись. Прощай!» И ушли они в ночь, как в омут две звездочки нырнули. Красноармеец, тот, который пить подходил: «Сматывай, – говорит – тетка манатки, и уезжай к себе в деревню, а то и тебя приплюсуем, не наживай греха!»
Ушли они все, а на меня сон нейдет. Убираться стала. Все по местам раскладываю, а про камешки эти бриллиантовые – и в уме нет. Уж, когда на второй день ребят собрала, вспомнила. Взяла стакан, а камешков там нет, вода одна. Господи! Я стакан на ладонь опрокинула, а камешки эти, ну, как льдинки. Так между пальцев и осклизают. Куда же мне с ними? За такие дела в тюрьму сажать не будут, а сразу и расстреляют. Стряхнула я их в носовой платок, завязала узелком, да и в подпол, где картошка лежала, всковыряла землицу, где помягче, узелочек туда, ногами притоптала, да так там и оставила. Думала, вернуться мои благодетели, а я им – вот они, камушки! сохранила за вашу доброту. Да, видно, дорога Глани и Григория Исааковича длинной оказалась. До сих пор вестей нет. Года-то, какие были? Страсть!
Вышла из подполья, утерлась платком батистовым, который мне Гланя подарила: «Носи, – говорит, – Дуня! Нехорошо с распростоволосой головой ходить, на людях показываться».
– Бабка Дуня, поедем в Донбасс, найдем этот дом, камешки из земли выберем. Хозяев, наверное, в живых нет. Сталин троцкистам рот пулей затыкал, не рукавицей ведь. Кто с тебя спрашивать будет? Зачем такому богатству пропадать? Видишь, живем как. Квартиру кооперативную построим, тебя к себе жить возьмем. А, поедем?
Я даже на стуле заерзал. Бриллианты теперь ничейные. Во мне взыграл дух кладоискателя, великого Комбинатора.
– Э-э, милай! На чужой каравай рот не разевай. Сам сумей заработать на квартиру. А то, вон, сколько на вино тратишь! Я тоже, сначала, так думала. Чего им окаянным там, в земле сидеть – не картошка ведь? Когда по шахтному делу суд новый прошел, я поняла, что мне отчитываться будет не перед кем. А здесь, как раз, наши, сельские, с подсолнухами на Донбасс поехали. Семечки тогда там, в цене были. Ну, и я собрала чуток, своих мешок намолотила, да из колхоза взяла два – в карманах наносила. Это, когда я с Драгуном жила, царство ему небесное, чтобы он там два раза перевернулся!
Жизнь, она, как дорога в поле, не знаешь, какие репьи к юбке пристанут. Вот и я так. Когда первый раз, ну, после моих арестованных благодетелей, я возвернулась к себе домой, батюшки! Изба-то еще стоит справная, слава Богу! В колхоз записалась. Мне в счет будущих трудодней мучицы выписали, картошки мешок, пшенцом разговелись – жить можно, а куда денется? Ребятам, я еще там, на Донбассе одежку пошила, мать-упокойница еще с детства к шитью приучила, – не голые ходят, вот тогда ко мне Драгун и пристал. «Ох, Дуняшка, – все пел, – какие у тебя дети хорошие! В деревне все чумазые, да грязные. А твои – как картинки! Давай мы их вместе воспитывать будем. А то я живу бобыль бобылем – скучно. У меня и картошка на всю зиму запасена и дровишки есть. Твои деверья-то на Соловках, поди, греются. Раскулачили их. Одна ты теперь. И я один. Пошли за меня! Очень мне твои дети нравятся».
Я и согласилась.
Перебрался он ко мне жить. Изба-то у него скособочилась, а у меня пятистенок, папанин еще. Когда он в лавочке торговал, домок и построил. Хороший домок, светлый. Живи, места хватит.
Сперва жили, как люди. Потом он на детей лютеть стал, особливо на Колюшу. «Чего – говорит, – ему учиться бездельнику? Пущай в колхоз идет, сам себя обеспечивает. Вон он едок, какой. По два куска хлеба зараз берет. А Колюша тогда, действительно, большенький был. Весь в Петра Петровича неугомонного. Вылитый отец. Да и учился хорошо, уже семилетку кончал».
Евдокия Петровна отложила шитье. Сна всегда что-нибудь шила, роняет руки на стол и смотрит мимо меня.
– Вот из деревни и на офицера выучился. В лейтенантах ходил, пока грудь свою под пули не поставил, головушка родная…
– Бабка Дуня, а почему ты все – Драгун, да Драгун.
– Паралич его Тимофея-то Драгуна разбил. Вот его соседи и прозвали «Драгун». Да и я его грешная так в сердцах называла. Тяжело, а бросить не бросишь. Груз-то свой. Мы тогда с ним уже в Совете расписались, как муж с женой. Куда же я его спихну? Рада бы, да от людей стыдно. А он моих детей поедом ел…
Да, что я все – про Драгуна да Драгуна! Вроде, другой темы нет.
Камешки, говоришь, раскопать? Я и сама думала. Приехали мы, сельские, на Донбасс, шахтеры теперь жить хорошо начали, семечки ведрами берут. Сядут друг перед другом возле мазанок, и семечки лузгают. Продала я свое, и бочком-бочком прошла посмотреть свою захоронку. Время-то прошло годочков пять или поболее. А на месте Глашина дома ствол шахтный соорудили, и террикон этот под самым небом коптит, чисто Сатана серой дышит. Вот тебе и камешки-бриллианты с алмазами, как ты говоришь, для диктатуры пролетариата!
Ну, Господь с ними, с камешками! Они из земли вышли, и в землю ушли, как люди…
Евдокия Петровна, вздыхая, взялась за кисть, сделанную из старой мочалки, и продолжила свою ежедневную ритуальную работу – действо по побелке печи-голландки после того, как догорят последние угли. Ни одного следа копоти не увидишь. Вроде, как печь и не топилась вовсе.
Моя хозяйка, бывало, руками всплескивала:
– Евдокия, Господь с тобой! Да, разве, за каждый раз набелишься? Завтра снова топить.
Соседей звала. Известковое молоко всегда стояло наготове в большом ведре, принесенном мной с работы. Соседи языками цокали, головами качали. Сдурела баба!
– На Донбассе порядок такой был – протопил избу, побели печь. Вот я и обвыклась – на удивленные вопросы отвечала Евдокия Петровна, незабвенная бабушка моей жены, да и моя тоже, если посмотреть на этот вопрос с другой стороны…
Глуховата была бабка. Было дело – приду с работы навеселе, а она, управившись с работой, у телевизора сидит, картинки смотри. Я сяду потихоньку возле, и молчу. Сна спохватится, взметнет руки:
– Ах ты, враг этакий! Лазутчик. Когда же домой воротился, свет мой ясный?
И смеется. Смеется. В глазах солнышко играет…
Умирая, Евдокия Петровна долго мучилась – мужички доминошники в хмельном азарте невзначай толкнули идущую мимо с полным ведром воды бабушку Дуню. Сбили ее с ног. Перелом шейки бедра в таком возрасте, тем более у нас, не лечится.
– А что вы хотите в ее восемьдесят четыре года, набегалась. Сказал пришедший по вызову врач.
Год пролежала в постели Евдокия Петровна. Все убивалась, что сродников своих по рукам-ногам повязала. Житья не дает.
Простите старую, набегалась…
Лежит теперь Евдокия Петровна, жена Петра Петровича в песчаной сухой донской земле села Конь-Колодезь.
Странное название села, не правда ли?
БЕЛОЧКА
– Хороша Советская власть, но уж больно она долго тянется, – говорил мой незабвенный родитель, задумчиво помешивая в голландке железной кочерёжкой рассыпчатый жар от навозного кизяка. Кизяк наполовину с землицей. Горит лениво, но золы, горячей и тяжёлой, как песок, много. Хорошая зола. От неё до утра тёплый дух идёт. Так бы и сидел у печки, грелся. – Ты- то доживёшь еще, когда всё кончится, а я уже нет, а посмотреть охота, что из этого выйдет…
У нас на семь человек семьи, слава Богу, есть корова, и навозу за зиму накапливается много, так много, что его хватает почти на целую зиму, если топить им печь только в самые лютые морозы. А в остальные дни можно совать в печь разный «батырь», то есть всякий сорняк, кочерыжки и хворост, собранный по оврагам и берегу нашей маленькой речушки с громким названием Большой Ломовис.
Я пришёл из школы. Замерз. На улице мороз крепкий. Снег под ногами твердый, как ореховая скорлупа. Пальтишко моё, перешитое из солдатской шинели, на рыбьем меху. Холод ему нипочём. То есть – совсем нипочём. Гуляет холодина под вытертым сукном, где хочет. Пока добежишь до дома, мороз аж всего обшарит. Даже под мышки, и туда заберётся, зараза!
Сажусь на скамеечку рядом с отцом, сую почти в самый жар руки. От скорого тепла они ломить начинают, и я корчусь от боли. Отец легонько бьёт по рукам: