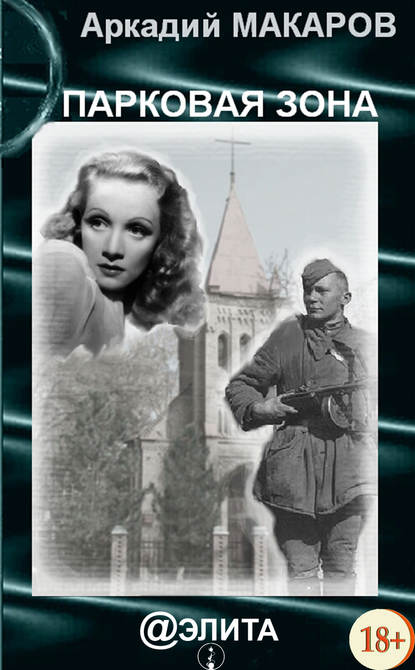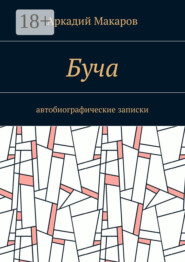По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Парковая зона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Взяв сигарету, Иван с сожалением вспомнил, что зажигалка и перочинный ножик остались там, в отделении милиции, и ему их уже не вернуть.
Прикуривая от угодливо поднесенной спички, он поделился с новым знакомым своей бедой.
– Накрылись! – коротко успокоил тот. – Ты что, Мукосея не знаешь, что ли? Он, падла, на прошлой неделе у меня стольник при обыске смыл. Козел он, Мукосей стебанный! Взял деньги и смеётся. Попадешься, мол, в другой раз, тогда и верну, а пока взаймы беру. Во, мусорило поганый!
Блатняк глотал водку жадно, захлебываясь и обливая рубашку. С мокрого подбородка стекала тонкая струйка. Водка в него вошла с третьей попытки. При первых двух его стошнило, и он, утираясь рукавом, смущенно шмыгал носом:
– Во, бля, не могу без аршина!
Половина бутылки, выпитая Метелкиным натощак, – порция, надо сказать, совсем не малая, особенно для семнадцатилетнего парня, хотя в этом деле и тренированного.
Алкоголь медленно, но верно начал действовать.
Тело, освободившись от земного бремени и только что пережитого страха, стало терять вес. Иван почувствовал себя весенней раскрывающейся почкой. Было жарко, и Метелкин, расстегнув рубаху нараспашку, откинулся на спинку скамейки, вытянув в дурном блаженстве ноги.
Проломив черствый панцирь, душа его тихо воспарила над шумом привокзальной площади, над скамьей, жесткой и ребристой, как останки древнего ящера.
Длинношеий и чернявый парень уже клевал носом, как гриф над падалью.
Обиды сегодняшнего дня сами собой улетучивались, и приходило чувство христианского всепрощения. Грудь распирало от глупой мальчишеской гордости, что он вот так запросто сидит с блатняком, уркой, и пьет его водку и курит его сигареты.
И-эх, деревенская простота и бесхитростность! Кабы молодость знала…
В избытке чувств Иван положил парню на плечо горячую, потную ладонь. «А что? Гриф он вроде и не гриф, а больше галчонок щипаный. И не страшный. С ним и в разведку можно. Я сам виноват, что он меня подставил. Не надо позволять лапшу на уши развешивать, – мешалось у него в голове. – Ничтяк, малый!»
Тот, что-то промычав, разломил пирожок и стал быстро его обнюхивать, потом, немного пожевав, протянул Метелкину вместе с бутылкой, в которой еще плескалось. До конца допить верткому ухарю было слабо.
Иван махом всосал в себя остатки, дожевал пирожок, медленно вытер ладони о брусчатые ребра скамьи и с наслаждением потянулся за сигаретой.
Дело было сделано, пачка мятой «Примы» все еще лежала на коленях у блатняка. Тот крепко пожал протянутую за куревом руку и с достоинством и гордостью процедил:
– Карамба.
Метелкин, не поняв, уставился на него.
– Кликуха у меня такая – Карамба. В детском доме получил. Говорят, отец мой, ну, пахан по-нашему, испанский республиканец, от фашистов прибег и замотался, падла, на русских просторах. А тебя как зовут?
– Иван, – в первый раз пожалев, что не имеет такой громкой пиратской клички, буркнул Метелкин.
Ну, какая может быть «кликуха» у колхозного пацана, все уголовные деяния которого – это соседские сады, за кои, если и наказывали, то крапивой по мягкому месту?
– А-а, Ваня, – разочаровано протянул потомок испанских конкистадоров. – Ваня – он и есть, Ваня… Что, ночевать негде? Бери бутылку! Я тебя в общагу устрою. Ты – мужик, и должен лопатить. Там у меня кореш один есть – Колыван. У него жить будешь, ломом ты подпоясанный. Гони за водярой!
Так, после успешного окончания сельской школы, судьбе было угодно окунуть Ивана Метелкина в помойку…
Правда, утонуть он в ней не утонул, но дерьма наглотался достаточно.
– Эх, Иван, Иван, – говорил потом в перекурах Михей, бригадир монтажников, – парень ты смышленый, а дурак дураком. Учиться тебе надо, а ты с нами, пропойцами связался…
11
Замороченный романтикой рабочих окраин Иван Метелкин сорвался, как гайка с резьбы, с насиженного его предками места на земле, кормившей Россию, закрутился среди удалых барачных ребят, проходя пробу на крепость.
Проба была, правда, не всегда высшей марки, но была такой, какой была.
– Эй, шухаренок! – сковырнул Ивана с полуночной, уляжистой кровати на ледяной пол его сосед по комнате – Колыван.
Голос у Колывана – как калитка ржавая под ветром, но рука твердая и ухватистая, покрытая порыжевшей порослью, жесткой, как прошлогодняя трава.
Эта рука не дает Ивану увернуться.
Над дощатым столом, мерцая в порожних бутылках, на тонком электрическом шнуре висит в черном щербленном патроне электрическая лампочка. На столе, рубашкой кверху, веер карт.
По всему видать – игра в разгаре.
Кроме Колывана под лампочкой – еще трое незнакомых Ивану парней лет под тридцать.
Намотавшись за день в монтажной бригаде, Метелкин после работы еле донес себя до кровати, а тем временем, как всегда, за столом начиналась обычная пьянка.
Игру, затяжную и азартную, Иван проспал. Теперь куча мятых бумажных денег выросла на кону.
В картежных делах молодой монтажник не участвовал, да и кто бы его туда взял? Здесь шел разговор серьезный. За одну игру Метелкину надо было бы полгода болтить, не разгибаясь, рожковым ключом 36?42 двутавры да швеллера на верхотуре, или махать кувалдой, подгоняя сварные стыки металлоконструкций.
Иван со своим соседом по койке работал в одной бригаде, вернее, работал Метелкин, а Колыван больше по больничным листам в общаге ошивался. Где-то на зоне, у «хозяина» в отсидке, он получил «тубика», и теперь ему в санчасти дают бюллетень по первому требованию.
Где бывший зек берет деньги, Метелкин не спрашивал, и правильно делал – не суйся, куда собака свой нос не сует.
Деньги у Колывана всегда были. Водились деньги. И туберкулеза у него никогда не было. За долгий тюремный срок он хорошо «косить под тубика» научился. В этом он был мастер. Бывало, потрет ниткой зубы, а потом продернет сквозь кожу на шее – вот тебе и карбункулы месяца на два.
Своего молодого соседа тоже учил, но, правда, только теоретически.
Любимые поговорки Колывана: «Работа не Алитет, в горы не уйдет», и «Ты, работа, нас не бойся, мы тебя не тронем!»
В комнате они с Метелкиным жили вдвоем, хотя рядом пустовали еще две койки с продавленный сетками, но к ним начальство больше никого не подселяло.
Митрич, комендант общежития, с Колываном большие товарищи. Говорили, что они когда-то подельниками были, вот отсюда и простор в комнате.
Митрич в картежных играх никогда не участвовал, а выпивать – выпивал.
Придет, бывало, пошепчет что-то Колывану на ухо, выпьет стакан граненый с краями вровень, понюхает мякиш хлеба, помнет, покатает его между пальцами, отложит в сторону и уйдет.
А после уже игра начинается.
Крутая игра.
Иногда целыми сутками швыряют карты, заставляя молодого парня бегать за водкой.
Попробуй, откажись и не пойди!