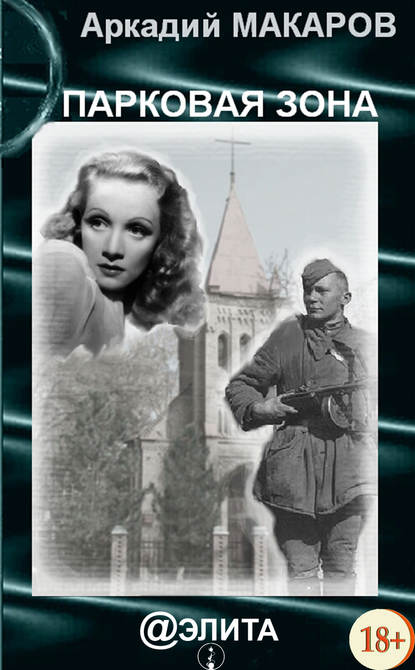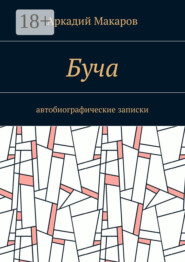По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Парковая зона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Правда, соловьям здесь было полное раздолье. Несмотря на бесконечные мастерские, заводики, общественные гаражи, опять мастерские с кузнечным грохотом и лязганьем железа о железо, птицы по весне здесь заливались вовсю.
Но охотников слушать по ночам соловьиные перепады не находилось: лихой человек или безвольный пропойца за мелочь в кармане могли здесь покалечить или отправить на тот свет. Лучшего места для этого во всем городе не сыщешь.
Вот и послушай любовные трели! Понаслаждайся.
И зачем Санек потащил за собой парня по этим недобрым местам?
Поди спроси!
Хотя болотца в лощине пересохли, где-то рядом спросонья по-своему лопотал ручеек, робко обозначая истоки Студенца – речки, от которой осталось только одно название.
По хлипкому, шаткому мосточку, спрятанному в кустах, ночные гости перебрались через этот ручеек. Было достаточно темно, но для Санька потаенных мест здесь, видимо, не было.
Несколько нырков в кусты – и вот он, пригородный поселок с характерным названием «Ласки». Рабочая окраина.
Поселок этот больше напоминал деревеньку с палисадниками возле домов, с кустами уже отцветшей сирени в них, с капустными грядками, белеющими в свете еще не погашенных окон. А там, где окна были уже погашены, за дощатым частоколом палисадников пряталась ночь, и больше ничего.
Ивану стало тоскливо и неуютно посреди улицы, ведущей в никуда. И зачем он сдуру потянулся за этим Саньком? Не ровесник ведь. Чешет, не оглядываясь, как зверь по следу! Улизни, Иван! Ваня Метелкин! Уйди!
Но куда уйдешь, когда вот она – изба и три светящихся окна в ней?
Санек привычно пошарил рукой за штакетником в палисаднике и отворил узкую калиточку, закрытую кустами сирени.
– Форвертс! – махнул он решительно рукой. – Вперед и дальше!
Нечего делать. Иван тоже поднырнул под куст и оказался внутри небольшого пространства.
В густом медовом свете окон кусты сирени выглядели отяжелевшими, то ли от пыли, то ли от выпавшей росы. Листья шириной в ладонь еле шевелились. Невозможно было предположить, что на сирени когда-то набухали пахучие кисти, в которые можно было зарыться лицом и вдыхать, забыв обо всем на свете, их тонкий аромат.
Оглядывался Иван Метелкин. Думал.
Но вот в одном окне огромной черной птицей заметалась, пластаясь по занавеске, размашистая тень.
Не успел Санек постучать, как створки окна раскрылись, и женская фигура с головой в белых барашках бигуди перевесилась через подоконник.
По звучному всплеску поцелуя Иван понял, что его друга здесь ценят выше, чем он думал. Следуя за подвыпившим Саньком, он все гадал, придется или не придется возвращаться им в общежитие глухой ночью по кустам да по кочкам, несолоно хлебавши?
А теперь у него появилась уверенность, что и в столь поздний час таких гостей, как его друг, за просто так не выпроваживают. И Метелкин почувствовал под ложечкой сладкий озноб ожидания того обещанного и еще неведомого удовольствия, страшного в своей сути, которое, по словам Санька, готовы им предоставить две способные к этому «честные давалки», с одной из коих Санёк уже давно «вахляется».
Слово тогда такое было – «вахляться», значит встречаться, или, как говорят, «заниматься любовью», хотя русскому человеку «любовью» это занятие никак не назвать. У русского для этого другое слово есть, короткое и емкое.
С трудом оторвавшись от Саньковых губ, девица с подоконника повернулась к Ивану своей головой в осьминожьих присосках:
– Сашуля, а это что за довесок с тобой? – в ее голосе Метелкину послышалось досадливое неудовольствие: мол, этого сосунка зачем черт сюда занес?
Оскорбившись, Иван хотел было повернуть обратно к выходу и, махнув рукой на всяческие удовольствия, уйти в ночь – пусть его бандиты там на куски изрежут. Плевать!
Но тут Санек заорал неожиданно:
– Тпру! Стоять! Нинка, отворяй ворота! Кони пить хочуть!
Голова из оконного проема мгновенно исчезла, лишь тень колыхающейся занавески заметалась у «коней» под ногами, пластаясь, как верная собака.
Санек, конечно, жеребец, а вот Иван чувствовал себя потерявшимся жеребенком.
Сыто чавкнула задвижка, и дверь с недовольным старушечьим всхлипом сонно зевнула.
Санек втолкнул упирающегося неопытного друга в избу:
– Не спи в хомуте! – и легонько поддал коленом.
Свет в доме после ночных потемок показался особенно ярким и резким.
Нинка бросила недовольный взгляд на Метелкина, растерянно переминающегося с ноги на ногу, и молча повисла у Санька на шее, капризно, по-девичьи, поджав под себя ноги.
Икры у нее были туго налиты, в мелких серебристых волосках. Даже маленькие пупырышки, мурашечки, высвечивающиеся на коже, так невыносимо манили, что досель неведомое, то, что до срока томилось в подростке, вдруг прорвалось и затопило смутившегося Ивана радостью жизни, бесконечностью ее, когда таких минут будет достаточно много, чтобы их не считать.
Нинкин поцелуй, беззастенчивый и откровенный, наконец прервался, и, оторвавшись от губ Санька, она опустилась на ноги:
– Малолеток приваживаешь?
Мягкой поступью она подошла к Ивану, провела по его губам мизинчиком и быстро по-кошачьи его лизнула, потом этот мизинчик выразительно пососала.
У Метелкина ноги подкосились.
– Не молочко, а сливки с клубничкой, – сладко застонав, распутница томно прикрыла глаза.
От ее здорового девичьего тела веяло женским обволакивающим уютом и определенной доступностью.
Глаза хоть и неопытного в таких забавах Ивана расслаблено легли на кружевную кровать с бесчисленными подушечками пряничного вида, расшитыми, вероятно, их хозяйкой в свободное от других дел время.
Санек выбросил вперед кулак и погрозил своей несдержанной подруге:
– Сразу и однова – убью! Попробуй еще так сделай!
Нинка смеясь повалилась на кровать:
– Ой, напугал! Боюсь вся прямо! Ты мне еще не муж пока!
– Нинок, не буди зверя! Кровь будет! – Санек оглянулся по сторонам. – Где Верка, подруга твоя?
– А-то ты не знаешь? На танцах Верка. Где ж ей еще быть? Это я у тебя такая верная. Сижу, слезы лью…
Тут за дверью, в коридорчике, что-то загремело, послышался короткий смешок, дверь распахнулась, и в дом яркой бабочкой вспорхнуло, как показалось Метелкину, Божье создание, сотворенное из лепестков роз, свежести утреннего ветерка и света.
Иван видел перед собой только облачко цветущей пыльцы да трепещущий ажур крыльев.
Юношеская пылкость оправдывает любые восторги.