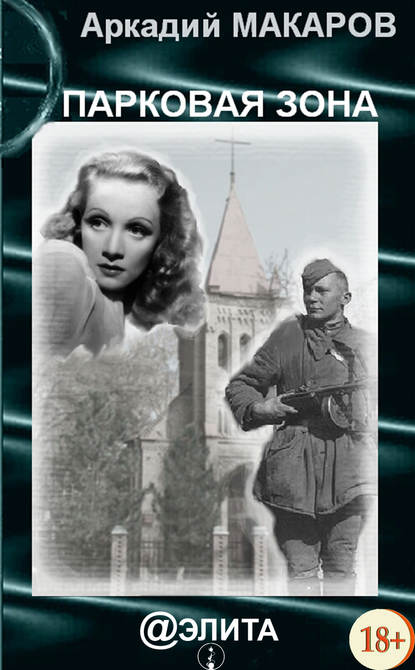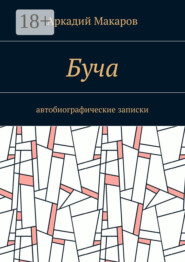По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Парковая зона
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В углу, в старой истлевшей соломе, что-то зашуршало. Девушка-ласка, выдернув руки из-за спины, быстро повернула голову, насторожившись. Ивану даже показалось, что у нее зашевелились ушки, улавливая направление звука, и стали обнажаться острые коготки на пальцах.
Теперь прошуршало совсем рядом.
«Мыши!» – подумалось Метелкину. Почуяли хищницу и убираются из сарая.
Девушка вдруг, испуганно взвизгнув, стремительно, в один прыжок, бросилась к нему на шею, поджав под себя ноги.
От неожиданности Метелкин чуть было не опрокинулся навзничь. Хорошо еще, что за его спиной стоял толстый деревянный столб, поддерживающий стропила, и он прижался к нему.
– Мыши! Я боюсь мышей! – щекоча ресницами его ушную раковину, затараторила она.
Ничего себе – ласка!
Иван непроизвольно потерся щекой о ее волосы: они были влажные, и от них горько пахло полынью.
Ему стало душно и жарко так, что он почувствовал, как разрывается его грудная клетка. Перед глазами медленно поплыли фиолетовые круги. Иван окунулся губами в ямочку на плече возле шеи и услышал, как в артерии упругой струей пульсирует кровь в такт ударам молодого, здорового женского сердца.
Ему неудержимо захотелось выпить этот пульсирующий родник, высосать его до дна и, обессилив, упасть возле него или утонуть в нем. Что он делает?! Губы, не подчиняясь ему, впитывали в себя прохладу ее кожи. Она пахла дождем, грозой, и была бархатиста, как лист мать-мачехи на исподе.
Теребя губами мочку уха, она что-то торопливо говорила, но он не прислушивался, осыпая короткими поцелуями ее лицо, шею, плечи и руки…
Мокрый трикотаж, сползая с нее, освобождал сочную грудь с тугими, напряженными сосками. Не чувствуя стягивающей узды бюстгальтера, грудь встала на дыбы, как жеребенок, радуясь свободе и молодости.
Рука Ивана, забыв все приличия, начала блудливо шарить по бедрам девушки.
Под обвисшим платьем ничего не было. Нежные влажные складки – и все.
Пальцы, руководствуясь инстинктом и ничем больше, сладостно погружались в пленительную, горячую зыбкость ее тела. Медленно входя и снова выходя, они жили отдельно от Ивана, подчиняясь древнему первобытному ритму.
Девушка в темноте нашла его губы, разомкнув их быстрым лезвием языка. Во рту у него оказался маленький, размером с бусинку, немного сладковатый шарик, который, медленно тая, заполнил всю полость рта. Маслянистый, сытный и одурманивающий запах забил все поры.
Тихо оторвавшись от земли, Иван беззвучно поплыл в бесконечность черного космоса. Короткие вспышки солнц проносились мимо. Сердце остро замирало и щемило, как в самолете перед самой посадкой. Потерялось ощущение времени и пространства. Крыша сарая раздвинулась до самого зияющего небосвода.
Пушистый зверек змейкой обвился вокруг его тела, колеблясь, как пламя. Распаленное дыхание толчками вырывалось из темных глубин ее существа. Медленно, как по дереву, сползая к ногам, девушка засасывала Ивана в свою гибельную, головокружительную воронку.
Вот она уже встала перед ним на колени, прижавшись щекой к холодной пряжке ремня. Торопливо прошуршала застежка-молния на брюках, и он оказался в невыносимо сладостном капкане ее губ. Подчиняясь все тому же первобытному ритму, он нырял и выныривал, и снова нырял…
Затопив черный космос светом, большое ослепительное солнце взорвалось в его мозгу, освободив от пут телесную оболочку. Стало легко и просторно.
Метелкин никогда до сих пор не ощущал так остро всю радость земного бытия. Почему-то невыносимо хотелось есть, дурашливое счастье переполнило его, выплескиваясь наружу.
Он ошалело осмотрелся.
Проем окна потемнел. Было тихо, и он слышал, как с проводов, срываясь, падали тяжелые капли. Ливень давно ушел дальше, вылив на грешную землю небесную влагу. Никого вокруг.
Ласка, отпрянув от него, бесшумно растворилась в теплых испарениях ночи.
Покачиваясь и скользя босыми ногами в жидком черноземе, Иван, напрямик, через пахоту, опустив голову и бессмысленно ухмыляясь, побрел к жилью. А вдали, за горизонтом, беззвучно вспыхивали и тухли зарницы. Вспыхивали и тухли. Там кто-то невидимый и огромный пытался прикурить, зажигая отсыревшие спички.
21
– Ну, люди! – вскинулась Верка, заглядывая к Метелкину в сторожку. – Совки недоделанные! Охота тебе в этой богадельне за гроши сычовничатъ? Я тебе за неделю плачу больше, чем ты за месяц здесь соберешь. Пупком прирос, что ли?
Иван глуповато ухмыльнулся. Что ей ответить, вольной удачливой бабе? Ей руки золотой теленок лижет, лобастой головой играючи, копытцем звонкую монету вышибает. Прикормила она его, теленка этого, молочком волшебным с ладони отпаивала. Вот и вскипает на теленке шерстка блескучим кипеньем. Ничего, что молочко от коровки бешеной. Прибыльные люди научили, в розовое ушко нашептали, наворожили удачу ту.
Иван смотрит на Верку – зверь баба!
Вот она сидит, распахнув болотного цвета дубленку. Дубленка длиннополая. Поярковым гладко стриженым исподом по краям старается наружу вывернуться, похвастаться. Шерсть шелковистая, полированная, бриллиантом отсвечивает.
Дорогая шуба…
Иван не удержался и кончиками пальцев провел по исподу.
– Убери руки! Я девушка честная!
Ярко накрашенные губы ее маслянисты, но мелкие и тонкие бороздки на них не дают обмануться. Привянувшие губы, когда Вера Павловна говорит или улыбается, удивительно похожи на двух жирных гусениц, или нет, пиявочек, еще не успевших отпасть от кормящего их тела. Невкусно.
И Метелкин отводит глаза, больше любуясь ее шубой. Вот бы жене такую! Ох, и зацеловала бы она его тогда! А то все ругань да раздоры…
У Верки сегодня хорошее настроение. Она сидит широкая, добрая, похожая на кошелку со всякой всячиной. Просунешь руку, покопаешься, покопаешься, а там, на донышке, деньги грудкой лежат.
Верка действительно лезет за пазуху, куда-то далеко-далеко, и достает плотный узелок. Он у нее, как выпрыгнувший зайчонок на ладони: два аккуратных ушка топорщатся весело, бодро. От узелка пахнуло духами, теплом и мелким грешком.
Вот ведь неистребимая бабья привычка прятать деньги в носовой платок! Времена прошлой скудной жизни не проходят даром. Теперь денег много. Все в женский кошелек не спрячешь, а барсетки больше для мужиков шьют. Не в кармане же таскать такой кирпич?
Деньги – та самая материя, количество которой, несомненно, переходит в качество. Вот уже и Верка совсем другая! Ни хозяйской, ни дамской сумочки Метелкин у нее никогда не видел, наверное, натаскалась за свою жизнь сумок. Теперь отдыхать надо. Теперь деньги за нее все сделают.
Верка протягивает Ивану несколько бумажек:
– На, это тебе премиальные! Клиенты говорят: «Где ты такого поворотливого мужика нашла?» Хвалят тебя. Бери, бери деньги! Что язык за зубами держишь, это хорошо. У нас ведь всякое может быть…
О том, что в салоне Веры Павловны может быть всякое, Метелкин убедился сразу же, как только приступил к своим обязанностям.
Пока он протапливал и нагонял температуру в парилке до кондиции, в комнате отдыха в ожидании уже кучковались соловьи-разбойники.
– Смотри, мужик, если перегреешь, тебя задницей на раскаленные камни посадим, а не догреешь – в унитазе в собственном говне утопим, – пообещал один из них, вертлявый, как шнурок от ботинка, угодливо расставляя коробки со снедью на стол.
– Смотрю, смотрю! – пробурчал Иван про себя, зная, что «шестерка» – она и есть «шестерка». Карту не бьет, а масть поддержит.
Пока то да сё, пока Метелкин примерялся к терморегулятору, который умудрился поставить в парилке, чтобы умный автомат срабатывал на отключение при заданной температуре, наиболее подходящей для особо требовательных клиентов (изобретение не хитрое, но стоящее – все же не напрасно Иван учился на инженера), в комнате отдыха за массивной дубовой дверью стали слышаться характерные всхлипывания и стоны.
Что за черт?! Девок как будто не было, не будут же эти соловьи-разбойники заниматься друг с другом?
Метелкин опасливо приоткрывает дверь, вроде для доклада, что все, мол, о’кей, ребята! Моя задница готова отчитаться за работу. Пора запускать пробника – ту самую «шестерку», которая тузом прикидывалась.
А Ивану дружелюбно из-за двери кричат:
– Мужик, иди сюда! Не сквози в дверях! Прими сотку!