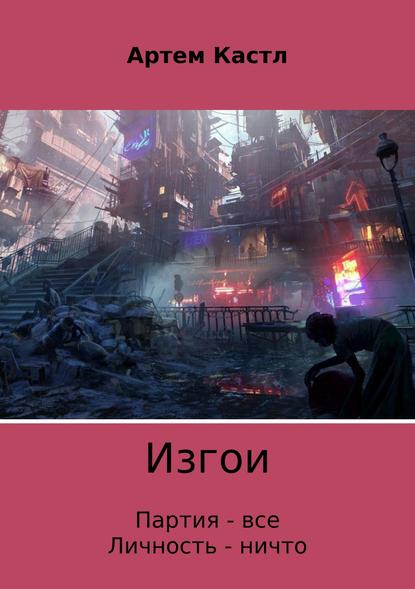По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изгои
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Он уехал в нищенские районы через месяц. 2 недели отработал, получил конечную зарплату, неделю потратил на продажу квартиры и уехал. Добровольно пересек границу. Больше его для нас не существовало. На работе только и делали, что говорили о нем, изредка поглядывая в мою сторону. Кто-то даже не стеснялся меня. Говорил о том, какой он трус, раз уж решил добровольно отправиться к этим маргиналам. Над Мэттом подшучивали. В лицо бы никто ему ничего не сказал, его боялись. Он был авторитетом для многих. Даже для Эрни. И пускай он никому об этом не скажет и никогда с этим не согласится, но это было так. Мэтт единственный, кто мог ответить Эрни, и единственный на кого Эрни не выплескивал свою злобу, свой гнев. Пожалуй, если бы тогда Мэтт заступился за Анну, Эрни бы ее не тронул. Но Мэтта не было на смене. Теперь его уже никогда не будет на смене. Он бросил меня. Хоть я и пообещал ему, что не буду злиться, я злился. Он бросил меня. Пускай он предлагал пойти с ним, переступить через все то, к чему я так стремился, и что так искренне пытался сохранить. Плевать, я бы все равно не пошел. Но я зол. Он мог бы остаться и жить как жил. Нечего ему было думать о свободе. Неужели это наши беседы его так вдохновили, тогда, если бы я знал, я бы не стал с ним разговаривать на эту тему. Тогда бы мы с ним вообще не разговаривали. Мне было скучно без моего друга. Хоть я и злился на него, но он был моим другом – единственным, кто поддержал меня. Единственным человеком, благодаря которому Эрни меня не трогал. А теперь я весь во власти Эрни. Он может творить, что захочет. Я вижу глаза Эрни. Он уже что-нибудь придумывает. Придумывает коварные замыслы против меня. Я обречен без Мэтта. Может, стоило бежать с ним?
4
Последнюю свою ночную смену я провел в одиночестве. У меня был скромный обед, состоявший из списанных гамбургеров. В руке я держал стакан, такой же стакан, на который недавно смотрел Мэтт, видя в нем так называемую свободу. Я делаю глоток. Для меня это просто стакан. В нем нет ничего необычного. Он полон чернью. Эту чернь я принимаю в себя. Даю пройти ей через мои легкие к желудку, и там загрязнить его, чтобы потом она могла в нем раствориться и выйти из меня в другом формате. Гамбургеры невкусные. Они списанные. Но раньше они были вкуснее. Или их плохо приготовили в самом начале, или это у меня проблемы. Я решил, что у меня, а то еще заставят купить дорогое блюдо. Заставит кто? Я же тут один. Смотрю в потолок и не вижу на нем ничего. Ничего, что мог бы увидеть Мэтт, чтобы последовать в нищенские районы. Где же он ударился головой? Где он поступил не так? Где он оступился от своего пути? Я смотрю в потолок и чувствую себя идиотом. Да. Я идиот. Мэтт перерос меня и духовно и физически. Ему хватило смелости сказать нет всему этому безумию. Он выбрал неминуемый конец, последовал как герой. А я так и остался дрожать от страха. Нужно будет сделать записи в дневнике и уничтожить его. Может так я смогу спастись от злой участи судьбы. Смогу протянуть еще лет 10. Без дневника не будет никакого обвинения. Встрече с чистильщиками можно будет сказать пока. Кого я обманываю? Партии не нужна причина, чтобы изолировать испорченную клетку, дабы не допустить заражения всей цепочки.
Я стал задумываться над предложением Мэтта. Может, стоило поехать с ним. Сбежать вместе. Гордо перейти ворота и не появляться здесь больше никогда. Может, так и нужно было поступить, но я так не поступил. Я поступил по-другому и не стыжусь своего решения. Столько усилий не могут уйти в никуда. Просто не могут слиться в унитаз, потому что мне так приспичило. Сколько я терпел издевательств. Сколько мной помыкали. Сколько об меня вытирались, и сколько меня макали в грязь. Я должен прожить старость здесь, в районе бедняков. Должен умереть в своей квартире, понимая, что я и не пожил то в радость, но при этом, радуясь, что я умираю не в грязном районе нищих, где после твоей смерти твою одежду с тебя снимут, а тело отправят купаться в канал. Мне так говорили. Но я не знаю – правда ли это.
Жизнь. Кому она нужна, если тебе предстоит ее провести с такими же убогими, как ты? Только ты на класс выше их. У тебя есть своя квартира, а у них общий мусорный бак, в котором они, наверное, вместе с Мэттом греют руки, прикладывая их к огню, дающему хоть какую-нибудь надежду на шанс. Но потом огонь исчезает. Холод овладевает. И все мечты испаряются. Реальность погубила фантазию. Мэтт думал, что он попадет в другое место, сможет там развернуться. Но это временно. Пока у него есть деньги, он там что-то стоит. А потом он будет в толпе таких же, как он.
Надо забыть его. Нужно все забыть. Забыть так же, как когда-то забыл шпиона, о котором теперь не беспокоишься.
Через 2 недели я уже не вспоминал о Мэтте. Не знаю, что такого могло произойти за столь короткое время, но Мэтт не появлялся в моей памяти. Я выгнал его оттуда, и он ушел. Я все чаще стал вспоминать детство. Эти ужасные времена, когда я был для всех козлом отпущения, словно моя жизнь была отдана моим одноклассникам, и они поступали с нею, как им вздумается. Я начал вспоминать их удары, их оскорбления. Их насмешки. Вспоминал смеющиеся рожи, в которых не осталось ничего человеческого. Дети, переходящие в класс подростков, не могли так издеваться над таким же, как они. Но, видимо, могли. Я вспоминал, как я прогуливал уроки лишь бы не попадаться на глаза и ученикам и учителю. Вспоминал, как мой классный руководитель чморил меня. Никто до сих пор не попросил прощения. Классный руководитель и вовсе считает меня последним отребьем. Говорит, что мне крупно повезло, что я вообще нашел работу. Конечно, я не учился в университетах, не попадал на службу в Партию, но зачем так ранить в сердце? Неужели после отъезда Мэтта это все пробудилось? Мне стало казаться, что наши отношения с ним погубили во мне прошлое. Но воспоминания вернулись. Когда я был счастлив, мне было не до плохого – сейчас же я не счастлив и все плохое вернулось. Не могу сказать, что с Мэттом я был счастлив, но наши с ним беседы не давали мне вернуться к прошлому.
Пишу новые гадости в дневнике. На этот раз против Мэтта. Я уже забыл о своей ненависти к Партии. Словно ее и не было. Главным противником моим был Мэтт. Он знал, что я не прощу его, я знал это, и мы соврали друг другу, чтобы расставание не было драматичным. Может, он думал, что я пойму его, но я его не понимал. Он скатился вниз, когда мог бы держаться наплаву. Он смог бы найти себе и другую работу, смог бы ужиться здесь. Но он уехал, а я остался. Все так же ненавижу свою работу и свою жизнь. Если так разобраться, то на его месте должен был быть я. Я должен был уехать в район для нищих, потому что у меня нет ничего. Ничего такого, что могло бы быть у Мэтта. Его любили на работе, а меня замечали лишь из-за того, что я им картошку подношу. Сейчас со мной даже не здороваются. Повторяются школьные годы? Может бросить все и пойти за Мэттом? Нет. Нельзя. Я не для того так горбатился. Откладываю дневник. Ложусь спать.
Утро выдалось пасмурным. Когда я вышел на улицу пошел маленький дождь. Я не додумался одеться потеплее, да и домой возвращаться не стал. Пошел на работу. Кроме работы мне некуда идти. Никаких культурных мероприятий для бедняков не было. Партия не рассчитывала, что мы, бедняки, будем ходить на какие-нибудь выставки, посещать театры, зачем?
Ведь мы заняты работой. Мы не уделяем внимания нашим подрастающим детям, не проводим медовые месяцы с женами, мужьями, мы работаем. Всю нашу жизнь, как муравьи, мы работаем на благо высшего класса нашего муравейника.
До работы я дошел быстро. Впрочем, успел весь промокнуть. На улице царил ливень. К ливню на помощь пришел туман. Дальше вытянутой руки ничего не видно. Переодевшись, я заступил на смену. К нам приходили мокрые люди, но улыбка царила на их лицах. Казалось бы, они должны быть огорчены дождем, но они рады, что могут отдать свою зарплату нам. Я не понимаю этого. Не хочу понимать. Буду просто работать.
Прошло несколько недель, каждый день из которых я работал. Я специально упросил Эрни, чтобы он ставил меня на полные смены каждый день, выходил и за тех, кто приболел. Сначала он ко всему этому отнесся скептически, но потом согласился. Работая все эти недели по полной, я приходил домой сильно уставшим и сразу же заваливался спать. Я не мог думать ни о чем кроме сна. Так я и надеялся забыть Мэтта. Я уже полностью забыл свою вину перед шпионом, осталось поднажать и забыть его. Тогда я смогу снова вернуться к обычному ритму жизни, и смогу дальше сосуществовать как одиночка.
К сожалению, Эрни пару раз выдал мне выходной. В один из таких выходных я проверил зарплату. Все-таки работать, как проклятый, довольно прибыльно. Я решил сходить на рынок. Нужно было купить станки, чай и чернила. Если с чаем и станками было легко, то чернила пришлось поискать. Когда я их нашел, мне пришлось торговаться с продавцом. Слишком завышенная цена на них. Я уже направился на выход, когда он принял мои условия, не зная о том, что я бы принял его цену, если бы мой фокус не сработал.
Из магазина я вышел с чернилами за мою цену, тем самым оставив половину зарплаты при себе.
Вернувшись домой, я не стал ничего писать. Нет смысла. В голову идеи не шли. Мне не о чем писать. Напишу про Мэтта, так все вспомнится, и все усилия зря. Напишу про шпиона, потянусь к ночным прогулкам, а полиция и так наблюдает за парком. Хоть о шпионе уже давно и не слышно, она все равно уделяет внимание этому парку. Может быть он жив? Если да, то его нужно найти. Но это не мои проблемы. Я не хочу ввязываться в это. Потратив все эти недели на работу, отлучившись от своих мыслей по поводу борьбы с Партией, я начал превращаться в ее идеального гражданина. Хоть я и так таким был, но дух мой был другим. Теперь и дух отдавался Партии.
Следующий мой выходной наступил через неделю полной рабочей смены. Сказать, что я был ему не рад – ничего не сказать. Я хотел работать. Не хотел оставаться со своими мыслями. Впрочем, я нашел выход из этой ситуаций. В 2 часах езды от моего дома располагался лес, который Партия по каким-то своим причинам не решилась срубить. Более того, она решила сделать его как бесплатный парк отдыха для всех семей бедняков. Этим жестом Партия хотела показать, что она заботится о бедных, что ей не наплевать на них. Этот трюк удался. Бедные еще больше стали любить Партию. Еще больше отдались ее воле, не испытывая при этом никаких вопросов: а почему бы Партии не облегчить нам жизнь, не снять некоторые налоги?
Так как я являюсь бедным, я решил, что этот парк относится и ко мне. Почему бы его не посетить. Взяв с собой покрывало, решил отдохнуть в парке.
Мне не пришлось долго ждать транспорта. Поэтому через 2 часа 30 минут я уже вовсю наблюдал за десятками семей, расположившихся в парке, и делающих вид, скорей всего и не делающих, будто им все нравится. Я слышал взрослый и детский смех. Дети бегали за одним парнем, ведущим за собой по небу воздушного змея. Он нравился им. Змей парил над ними, притягивал их. Могу отметить, что и я минут 5 смотрел на это чудо. Он для меня был символом свободы. Символом, на который я отдал 5 минут своей жизни.
Я ухожу вглубь парка. Туда, где безлюдно. Где никакой смех не сможет достать меня. Где я буду один на один с серостью этого парка. Все светлые тона остались там, где смеются эти глупцы, все серые тона сейчас идут рядом со мной, развеивая свои краски по всему парку. Даже светлое для других небо, для меня хмурится, готовясь полить свои слезы. Найдя открытую полянку, я устроился возле дуба. Расстелил полотенце на земле и уснул на нем.
Сон мой был нарушен, когда я почувствовал, будто кто-то стоит надо мной. Открыв и протерев глаза, я увидел перед собой женский силуэт. Лицо красивой девушки с зелеными глазами, рыжими волосами, падающими на мое лицо (возможно, она сидела передо мной), и покрывающими часть ее щечек веснушками. Она смотрела на меня, искренне улыбаясь. Если бы я умер, я бы понял, что это ангел, что они реальны, что Рай реален, но я точно знал: я жив. Мне рано умирать.
– С вами все в порядке? – спросила она, все так же улыбаясь.
– Да. Да. Все хорошо. Просто прилег отдохнуть возле деревца.
– Вы уверены? Мне показалось, будто вам стало плохо.
– Нет. Все хорошо. Спасибо.
Я облокотился на дуб. Она сидела напротив меня и улыбалась. Ее плечи были открыты для солнечных бликов, задержавшихся на них и путешествующих по ним, стоило ей повернуть голову.
– Вы так часто отдыхаете вдали от всех? – спросила она.
– Да. Знаете ли, мне это приносит покой. Я не люблю шум.
– Вы приехали в парк. В место, где царит шум и смех семей, в место, где кажется, будто ты и вправду счастливый человек, и ты только и желаешь здесь отдаться счастью. Здесь не может быть тихо.
– Зато здесь (указываю на полянку) может. Вглубь парка никто не заходит. Это место для тишины и ее любителей. Счастье в самом начале.
– Вы странный и интересный. Я бы с вами пообщалась. Если вы не против?
Мне хотелось ей сказать: да, я против! Убирайтесь! Но не мог. Хотелось с ней поговорить. Дефицит общения сказывался. Раньше я его восполнял разговорами с Мэттом. А сейчас мне не с кем общаться. Поговорю с ней немного, и как пойму, что готов идти – уйду.
– Так, о чем вы хотели бы пообщаться? – решил узнать тему разговора.
– Расскажите о себе. Чем вы занимаетесь? По вам видно, что вы очень устаете, возможно, работаете без выходных.
– Так оно и есть. Я работаю без выходных. Работаю в закусочной для бедных. Таких сотни по государству, наверное, знаете. Домой возвращаюсь поздно. В основном дома меня никто не ждет. Я живу один. Нет ни семьи, ни друзей.
– Сожалею вам. Наверное, вам так одиноко?
– Нет. За 10 лет одиночества ты смотришь на шумные семьи и компании, как на нечто такое, чего быть не должно. Это все чужое для меня.
– Я вам искренне сочувствую, хотя нахожусь в таком же положении, в каком находитесь и вы. У меня тоже нет семьи и нет друзей. Точнее сказать, они были, но потом исчезли.
Она погрустнела. Склонила голову, отдав прекрасные глаза тени. Я хотел было обнять ее, но отказался от этой затеи. Мы не так уж много времени провели вместе, чтобы я мог ее обнять. Она сжала руки в кулаки. Я увидел на безымянном пальце левой руки кольцо. Неужели она была замужем, и с ее мужем случилась беда. Зная систему нашего государства, это было бы неудивительно. Как я уже говорил, Партия может обречь человека на смерть просто так, просто по желанию. Или потому что он попал не в то место не в то время.
В основном люди сдавали друг друга полиции, или, как я уже говорил, вначале любовник сдавал мужа полиции, а сам кувыркался с женой, пока та его не сдаст. Я слышал о случаях, когда дети сдавали родителей лишь из-за того, что те что-то не так сказали или прикрикнули на детей за их ошибки. Это был еще один повод моего нежелания заводить семью. Каждый день спать на мине, боясь, что она взорвется, не особо хочется.
Она посмотрела на небо. Я видел, что от наплыва воспоминаний она старается не заплакать, решил, что в правилах приличия лучше будет не смотреть на нее. Отвел глаза.
– Я люблю небо, – продолжила она, устремив взгляд в голубое море, накрывающее нас – мне кажется, что все ушедшие от нас родные люди поселяются там, на небе.
– Когда-то это определение подходило под слово Рай, но сейчас оно вышло из моды.
– Его изгнали. Изгнали из нас это слово, не дав взамен ничего. Безысходность.
– А разве что-то физическое под этим словом было?
– Была вера.
– Вера?
– Вера, что после смерти мы не исчезнем в темной пропасти из ничего, а попадем в место, в котором встретимся с почившими близкими и обретем там покой.
– Вы ярая приверженца всех этих определений, так мне показалось.
– Просто мне куда приятней знать, что я не исчезну в небытие, а встречусь с любимыми.
– Все это выдумали люди, чтобы утешить себя. После смерти нет ничего.