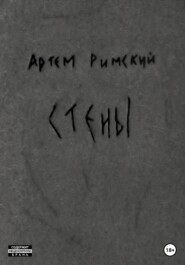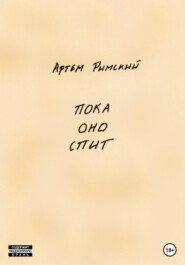По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Беги как чёрт
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нет, я не смеюсь… даже, не знаю, был ли я когда-либо еще так серьезен…
– Завтра? – он крепко стиснул зубы и растоптал окурок ногой.
– Прости меня, Рене. Прости, что я такой дурак. И что побеспокоил. Спокойной ночи.
Телефон полетел в стену здания на противоположной стороне улицы, а сам Винс опустился на бордюр тротуара, закрыл лицо руками и расхохотался.
«Великолепно! Потрясающе! Смейся, Рене, смейся же!»
«Нет, она не смеется, тупой ты идиот! Поверь, она уже забыла о тебе! Вот так действительно лучше! Если бы она сейчас смеялась – это был бы роскошный подарок для тебя. Роскошный, тупица! Но она уже не помнит, Винс! Прошло полминуты, а она уже не помнит!»
Тяжело поднявшись, Винс вернулся в паб.
– Еще водки и еще пива, – крикнул он с порога.
– Винс, дружище, боюсь, что тебе уже хватит, – Джим покачал головой.
– Джим, пожалуйста, без лишних разговоров. Я в норме.
Джим с явным недовольством выполнил заказ.
И наступила тьма.
Глава III
09.06.2016 (четверг, вечер)
Эдвард Эспер сидел на заднем сидении машины такси. Почти с враждебностью поглядывал он на герцогскую площадь, на здания ратуши и университета. Когда же площадь осталась позади, и из собора Святого Франциска раздался первый из восьми ударов колокола, он и вовсе скривился в гримасе отвращения. Вскоре автомобиль миновал Старый город и въехал в ту часть бульвара Генриха III, что была застроена коттеджами. Тут Эдвард глубоко вдохнул, закрыл глаза и затаил дыхание секунд на десять. Процедуру эту он повторил три раза, и призвана она была, чтобы заменить выражение нетерпимости на его лице жизнерадостной улыбкой.
Невысокий и атлетичный, Эдвард обладал тем типом внешности, при котором на лице всегда сквозит легкий оттенок какой-то светской надменности, приобретаемой еще в процессе воспитания. Надменность эта – которую не стоит путать с презрением или чванливостью, и которая всегда была и будет в моде, – сквозила и в его голубых глазах с низко опущенными наружными уголками, и в блуждающей на тонких губах усмешке. Чистая и свежая кожа лица, блестящие светло-русые волосы, уложенные в классическом стиле на левую сторону, четко очерченная линия бровей – все это выдавало в нем человека, заинтересованного в респектабельности, но совсем не воспринималось как излишний нарциссизм.
– Какой номер? – спросил водитель.
– Пятьдесят три, – ответил Эдвард, уже заметив родной дом.
Господи, как же он не хотел переступать его порог.
Но делать было уже нечего. Эдвард расплатился с таксистом, забрал сумку и двинулся к крыльцу. Только он ступил на первую из трех ступенек, как входная дверь открылась, и навстречу сыну вышла сияющая улыбкой Моника Эспер.
– Эдвард, дорогой мой, – приветствовала она молодого человека и раскинула руки для объятий.
– Здравствуй, мама, – стараясь выглядеть как можно более счастливым, Эдвард обнял мать и поцеловал ее в обе щеки.
– Эта та рубашка, которую я отослала тебе месяц назад? – Моника погладила сына по плечам и поправила воротник рубашки из темно-синего шелка.
– Да, мама, та самая. Она мне очень нравится.
– Милый, как же мы соскучились, – вдохновенно произнесла мать, с нежностью заглядывая в глаза сына.
– Я тоже скучал, – ответил Эдвард и вновь обнял Монику, продолжая судорожно клеить улыбку на лицо. – Как там папа? Как он себя чувствует?
– Нормально, дорогой, у нас все нормально. Ну ладно, хватит объятий, пока я не заплакала, и хватит стоять на пороге. Ты, наверное, голоден? – Моника освободилась из объятий сына и повела его в гостиную, куда в то же время спустился Клод Эспер.
Приветствие с отцом было менее официальным – Клод в отличие от Моники не постеснялся пролить слезу, обнимая отпрыска.
– Ну ты чего это придумал? – впервые Эдвард улыбнулся искренне и с нежной фамильярностью хлопнул отца по щеке. – Старик, ты совсем расклеился.
– Это я так, все в порядке… – отвечал Клод и закашлялся, чтобы скрыть свою сентиментальность. – Давно не виделись ведь…
«Ну да, в порядке» – подумал Эдвард, пристально глядя в лицо отца.
Пока старший и младший Эсперы обменивались любезностями и вели шаткий диалог из тех, которые сопровождают подобные встречи, Моника суетилась с приготовлениями к ужину вокруг накрытого в гостиной стола. Было видно, что мать счастлива – это читалось и в ее лице, и в порывистых движениях, некоторые из которых были совершенно ненужными. Однако же каждый раз, когда ее взгляд останавливался на Эдварде, на какую-то долю секунды она замирала и словно вся погружалась в наблюдение, будто пыталась проникнуть в самую его душу.
– Эдди, почему ты не предупредил нас заранее, что приедешь сегодня? Мы ведь ждали тебя завтра.
– Мам, честное слово, я только сегодня узнал, что завтра полностью свободный день. Я ведь говорил тебе по телефону, что в понедельник у меня начинается практика. Три месяца в консульстве Германии – это ведь не шутки. А после нее итоговая на бакалавра. Ты и сама прекрасно понимаешь, что следующие три месяца во многом определят мою дальнейшую судьбу, так что один лишний выходной мне очень кстати, – объяснил Эдвард, попеременно переводя взгляд с матери на отца.
– Дорогой мой, – восхищенно проговорила Моника, не в силах скрыть свою гордость за сына, – дай я еще раз прижму тебя к себе.
– Э, нет-нет, – Эдвард засмеялся и вскинул руки в предостерегающем жесте. Но увидев, что это не останавливает расчувствовавшуюся мать, схватил свою сумку и отступил к лестнице. – Достаточно, а то и я заплачу.
Моника, ничуть не оскорбленная, а скорее даже польщенная этим театральным бегством, вместо сына прильнула к мужу, и вдохновенно проговорила:
– Наша гордость.
Если бы посторонний человек – хотя бы та же Джессика Фэйт – наблюдал сейчас эту сцену, у него вряд ли возникли бы сомнения в том, что в семье Эсперов царят любовь, гармония и взаимопонимание, и совершенно неважно, кто при этом исполняет роль первой скрипки. Однако же, как часто и бывает, самые важные и самые сокровенные тайны каждой семьи надежно скрыты от чужих глаз, спрятаны в самые глубокие тайники душ, а некоторые из этих тайн и вовсе находятся в плену одного единственного человека. Были такие секреты и у Эдварда, и в данный момент ему стоило немалых усилий скрыть перед родителями то потрясение, которое вызвала в нем последняя фраза Моники; стоило немалых усилий запечатать на своем лице улыбку, которая еще секунду назад была настоящей; стоило немалых усилий не ответить родителям то, что он произнес про себя: «Ваш позор».
– По-другому и быть не могло, – тем временем ответил жене Клод.
Внутри Эдварда все затрепетало от бешенства.
– Я в душ, скоро спущусь, – коротко бросил он и помчался в свою комнату.
– Не шуми наверху, – услышал он вслед голос матери. – Я специально уложила Томми спать пораньше.
Эдвард еще в гостиной заметил, что стол сервируют только на три персоны, чему он был весьма рад. Оказавшись один в своей спальне, он швырнул в угол сумку, не имея намерений разобрать ее, и бросился на кровать лицом вниз. Перед его мысленным взором мелькали различные несвязанные образы и события из недавнего прошлого, и чаще других самое страшное и гнетущее из них: лицо красивой девушки. Его девушки. Окровавленное лицо.
Эдвард принялся наносить быстрые удары обеими руками по своей подушке. Тут же вспомнил, что может разбудить умственно отсталого ребенка, чего он совсем не желал, рухнул на спину и закрыл лицо руками. Как же хотелось очнуться от кошмара или же наоборот забыться любым способом. Эдвард даже не отвергал возможности, что после ужина пойдет и напьется, хоть старался не прибегать к такому методу для бегства от проблем, считая себя выше этой порочной слабости. Но сейчас! Сейчас он был готов забыть о своих принципах, только бы воспоминания о событиях позавчерашнего вечера перестали подобно кислоте разъедать его сознание.
Спустя пять минут он кое-как заставил себя немного успокоиться, взял уже приготовленные матерью полотенце и чистую одежду и отправился в ванную. Теплый душ смог ослабить внутреннее напряжение, и к ужину Эдвард спустился с той же рисованной улыбкой.
– Эдди, – говорила Моника, когда сын сел за стол. – Я ведь правильно понимаю, что ты не будешь вино? – она взглянула на сына широко открытыми глазами. – Я почувствовала от тебя запах спиртного, и решила, что ты воздержишься, не так ли?
Эдвард почувствовал закипающее отвращение. Ни гнев, ни злость, а самое настоящее неприкрашенное отвращение.
«Началось. Как же я ненавижу этот взгляд: два немигающих круглых диска, с кроткой наивностью на лицевой стороне, и безапелляционной претензией на обратной. Господи, дай мне сил пережить этот ужин, умоляю тебя. Дай мне сил не взорваться».
– Да, мама, спасибо. Я выпил в поезде немного пива, чтобы скоротать время. Думаю, мне и в самом деле не стоит больше пить.