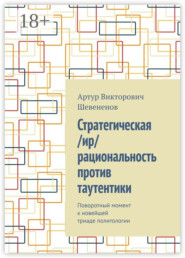По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Истопись. Eistopeis
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Истопись. Eistopeis
Артур Викторович Шевененов
Настоящей книгой венчается трилогия ТРИ/TREis (Таутентика, Резидуаль, Истопись), как и автоморфное каждому тому установление связей между исследуемыми областями и внутри таковых. Дерзновенное предприятие отстраивания новейшей политической философии (теоретической политологии) можно полагать как начатым, так и завершенным.
Истопись. Eistopeis
Артур Викторович Шевененов
© Артур Викторович Шевененов, 2021
ISBN 978-5-0055-2643-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ИСТОПИСЬ
Жертвам пожаров климатических, поджогов геополитических,
людям и братьям меньшим,
скорбный счет коим умножен,
ускорен в преддверии Жатвы.
Представшим, пусть исподволь, учителями, – и таковыми пребывшим.
Всякому колену и племени, да пребудет любовь и взаимная нужность с каждым
EISTOPEIS
By Arthur V. Shevenyonov
To victims of climatic wildfires, prey to geopolitical arsons,
human & animal alike,
whose toll has been high & counting,
mounting amid the Latter Harvest drawing nigh.
To those proven to have taught, albeit/if unbeknownst, and so remained.
Unto each folk & every people that they may have love & appreciation extend unto & rest with all
Странности (не) должны быть странными?
Есть вещи, которые не могут не забавлять. В детстве, когда читал «Сто рассказов из русской истории», поражала «крамольная» догадка, озвучивать которую тогда, в пору позднереваншистского рывка переразвитого социализма (несомненно обреченного в силу того, что руководили рывком и осуществляли его беспринципные карьеристы, инвариантно прилаживавшиеся к любым режимам и вперед всех выкрикивавшие лозунги, всякий раз новые), было бы неосмотрительно: оказывается, «народ» не всегда прав, а случаются в его среде и вороватые, и прочие нечистые на руку, и вовсе глупые да бессовестные. Иначе отчего Петр Великий иной раз не церемонился с таковыми? Вот и Ленин как-то походя-впроброс именовал «массами» (это коробило изначально, годков с осьми; ан допускал, что лезть в путаные вопросы без знаний бывает рановато).
Разумеется, это, – как окажется позже, – скорее начальный, почти профанический или «профанный» уровень изучения, колеблющийся меж наивной эмпиристской феноменологией и логицизмом-аналитизмом. Существуют уровни и повыше: «сакральные». Которые, во избежание сваливания в петлю возврата к изжитому да ветхому, не должны редуцироваться до «сакраментального». Как ни грустен факт исторической девальвации терминов – этой более пассивной, но не менее злобной и злободневной моде подмены и хищения имен. Но достичь полноты – этой связи меж связями, – возвращающей и простоту, ясность, еще предстоит. И путь не иначе как резидуален, с сущностью чего удобнее всего ознакомиться из тезоименной первокнижицы.
В пору первой юности озадачивало иное. Так, дело было уж даже не в том, что народ готов был лить слезы, останавливая работу в поле и у станка, наблюдая за перипетиями судеб выдуманных персонажей стран далеких (географически, а впрочем – не душевно, когда эмпатия еще теплилась в этом мире и большой Стране), при этом почти равнодушно наблюдая за крушение собственных: лада, судьбы, «портфеля» экономики и «матрицы» общественных институтов, самой области выбора. Занятнее было другое: то, как русский язык продолжал еще жить невольными тщаниями националистов Прибалтики и сепаратистов Закавказья, террористов с Ближнего Востока и их инструкторов из-за океана, поставивших на наиболее вульгарную реализацию римского имперского союзничества и максимы же имперской экспансии (причем сдабривая количественное качественным, географию – институтами и языком): «divide et impera». А именно, ставку сделали на «бжезинщину» в смысле центробежных, антиимперских сил вне западного доминиона как средство укрепления центростремительности внутри такового. Национализм, цепная реакция дробления на «национальные» квазигосударства, диссоциативные (противительно-инертные) идентичности и «идеи», вложенные в уста необязательных интеллигентов-реакционеров (кстати сказать, скорее обласканных советской властью, с коей боролись, нежели притесняемых; иначе неясно, как объяснить наличие высших ученых званий вдобавок к научным степеням у тех же Гамсахурдиа и Закаева), явились тем механизмом и катализатором притупления критического мышления, что замещалось агрессивно-крикливым критиканством с непроверяемыми из сегодня посулами в отношении того, что будет завтра, стоит лишь поменять – даже разрушить – игру.
Занятно было, разумеется, то, что парадоксально роднило крах Советской империи с крушением Римской (притом, что сущности их были отнюдь не одинаковы: чем не иллюстрация «сближения в худшем», причем помимо «родственности» гнилых яблок и гнилых же апельсинов, чья гниль столь же доминирует над предпочтениями и вкусовщиной, сколь делает возможным сравнение несравнимого). Подобно тому, как гонимы были природные римляне, то же примерно постигнет этнических (прирожденных, «априорных») или, что важнее, культурных (благоприобретенных, «апостериорных») русских на постсоветском пространстве как новой, схлопнутой точки отсчета-референта, относительно коих (и ложно связываемой политической идеи, оттоле заменяемой чем угодно от западничества до этнокультурного и религиозного фундаментализма всех пошибов, неизменно симфоничных бжезинщине обобщенной) и определялись идеи-пути «национальные». Все, дескать, что доселе говорили нам, оказалось ложью; значит, все иное – правда. Бойтесь бывших друзей и союзников: они куда более непримиримы, нежели априорные враги. Но еще более следует бояться идейного вакуума (что актуально доныне): всасывает что угодно и заполняется всем, с чем пытаетесь заискивать и заигрывать, изображая – подобно римским правителям – склонность «прислушиваться» к массам и потакать их прихотям («vox populi, vox dei»).
И, подобно тому, как латынь не только не умирала долгое время, но и «умерев» и вульгаризовавшись в новых этно-преломлениях языковой дифференциации, доныне служит источником пополнения научной терминологии, нечто подобное постигло и русский язык на постсоветском пространстве и даже в глобальном масштабе. Первое проявилось в том, как все вышеперечисленные группы – националисты, террористы, фундаменталисты – переговаривались между собой не иначе как на русском попервах. (В более недавнее время освоить могли сперва технологии связи, затем и английский – эту «новую», или промежуточно-заместительную, латынь с куда меньшим числом времен и залогов, зато массой исключений, оставшихся как реликты конвенций, пришедших к узус-доминированию в разные времена. Как и прочие современные, даже претерпев ущерб совершенству в угоду практичности, язык все еще красив и потенциально вполне способен служить передаче истины даже минимумом средств. Но в том-то и состоит прискорбное знамение времени, что все чаще филигранное владение им служит искажению действительности и сокрытию фактов и аргументов, мыслей и чувств.) Другой же аспект тенденции указывает не менее иронично (если не сказать – шизофренично) на то, как же рьяно потянулись к словарикам и националисты из бывших союзных республик после кризиса 2014 купно с их кураторами: последние, – пытаясь возродить постсоветологию (похороненную бравурными одами ранне-докритического Фукуямы), первые же – ища в сетях прослыть «недовольными русскими из глубинки» в рамках реализации (manning, putting on wheels) той же, впопыхах и наспех воскрешаемой из пепла, аморфной стратегии. Чего же? Противостояния всякой критике и всякой альтернативе путем замалчивания первой и стерилизации последней. Демократия не признает критики (себя), как и рынок не приемлет (для себя) конкуренции, – причем то и другое, как эманации «невидимой руки», не склонно узреть исток в изнутреннем экзистенциальном кризисе как дефиците автоморфности. Все это было нами проговорено не раз.
Как давно озвучены были и тезисы, предлагаемые а настоящей серии (на предпринимаемой, искомой полноте в надежде обрести простоту и ясность) и ныне вещаемые со всех федеральных каналов новообращенными государственниками. Одна беда: салонные обмены остротами да уничтожающей куртуазностью (впрочем, и последняя соревнуется в редкости с грамотностью бегущей строки) едва ли эмулируют режимы научно-исследовательских конференций. А навязшие на зубах тезисы, отполированные и комфортно ложащиеся на слух элементы критики западного упадничества, трупным ядом еще способного отравить политико-экономическую среду вокруг, едва ли возмещают дефицит глубоких и контринтуитивных идей. В частности, вовсе не очевидно, что и наиболее убедительные из экспертов имеют представление о структуре сложностей и разменов (самой неопределенности) либо – еще менее вероятно – располагают пониманием областей более «технически» предметных помимо здравого смысла, заведомо губительных предпочтений и «доказательно» (задним умом, исторически обозреваемых как таковые) проигрышных путей.
На другом конце элитарного спектра (если речь о мере ответственности) комфортно же расположились политики, все чаще делающие ставку на отдельные сегменты электората и «людского капитала», – которые склонны более пересекаться, нежели нести диверсификацию и разнообразие (молодежь, «креативный класс»), – скорее в смысле заискивания. Однако, как и с посулами на будущее, леверидж заигрывания здесь действует обоюдоостро: повышая шансы «до» и задирая планку требований-ожиданий «после». Последнее работает куда подобнее знаменателю срезания, нежели числителю-мультипликатору.
Нечто схожее имеет место и вовне. Невзирая на точечные достижения – и разве что досадуя на то, что таковые имеют место как вид экстерналий по собственному недосмотру либо в силу нелинейности игры, – Запад все более утверждается в ощущении того, что имеет дело с «зарвавшимся выскочкой», этаким скоробогатым парвеню из мольеровских комедий, которые вроде как никого никуда не зовет, и скорее всего оттого, что и не ведает, куда сам грядет. В самом деле, Русь пока не выказывает признаков избрания, если и не конкретного пути, то нащупывания приемлемого, сродного себе рода оного. А раз так, то не с руки ей ни призывать (за собой или к себе), ни отзывать (от изобличаемой и доселе доминировавшей альтернативы).
В сущности, здесь вновь «зудит и жужжит» – даже не дилемма, – сумма или наложение обоих типов ошибок. Если и мыслимо обнаружение истинного и достижимого пути, Русь такового либо не видит, либо ему не следует. Запад же, если и предлагает путь ложный, то по меньшей мере делает вид, что он конкретен, осязаем и релевантен – самой демонстрируемой (сигнализируемой вовне и внутрь клуба) верой или силой предпочтений.
Congruit Multiversa?
Читатель проницательный (а иные предлагаемой нагрузки и не осилят), несомненно, уже подметил: в настоящем изложении то и дело обращаемся к сюжетам из истории «суперновой», а не то что – новейшей. Посему вот еще один совсем уж «свежий» сюжет, ценный тем (пусть и во всем своем сомнительном достоинстве, как явствует ниже), сколь часто повторяется в истории в самых, казалось бы, многоразличных проявлениях. Украинский Президент, на коего возлагались надежды большинства по прекращению затянувшегося конфликта (что само по себе отдавало утопией, поскольку речь идет о цивилизационном столкновении, завершить которое вничью один из внешних кураторов не намерен), озвучил нечто ужасное – и до скучного предсказуемое. Все, мол, кто не разделяют известных ценностей (в сущности, клубных, рядящихся под автохтонные и вклинившиеся не так давно паче исторического узуса, чем и породили раскол), должны рассмотреть возможность уехать туда, где и доминируют ими поддерживаемые ценности. Нелепо? В том-то и дело, что нет! Весь ужас в том, что все наиболее чудовищное звучит, как правило, правдоподобно. Как уже подчеркивалось, ровно так и работает мамона – эманация отца лжи, – и в том источник мощи недолжного перераспределения: власти, ресурсов, влияния. Если и согласиться, что всякая-де власть от Бога (хоть в славянском изводе более определенно выражено: «несть власть яже не от Бога» – «которая не от Бога, та и не настоящая власть», и признавать таковую – что клубную, что местно-представительскую, – как и преступные приказы исполнять, нет необходимости); даже тогда выходит: создается одним источником, перераспределяется же произведенное совсем другим. Кроме того, если и попускаемо сие свыше, то произволяемо, споспешествуемо ли?
В самом деле, ведь и разлитие желчи нацизма посткайзеровским Рейхом, и его реплика в апартеидном ЮАР осуществлялись под довольно благовидными предлогами: укорененности и автохтонности. В первом случае интеллектуалы сетовали на то, что один путь («арийский») рискует претерпеть мутации, будучи переплетен с «неарийской» пропагандой из уст неевропейских профессоров – этакая нежеланная интерференция, победа рецессивных свойств и слабейших видов в схватке с сильнейшими (чем-де не adverse selection!), передача энергии от более холодного более горячему телу. Вот и апартеид («раздельность», ср. англ. aparthood, нем. Apartheit) на словах отстаивал нежелательность для разных видов сплетаться или пересекаться, дабы самобытность каждого была явлена в рамках их моделей развития. Это ничего, если развитие-то как раз сдерживалось подтачиванием возможностей и запиранием в компактные гетто или бантустаны, резервации и социальные «стеклянные» перегородки, как происходило и в американскую приснопамятную Прогрессивную эру, и поныне бытует в перерывах между выборами.
Разумеется, украинский глава, – как и Рейган, всего лишь актер по первой профессии, – не обязан был изначально уметь все, кроме как выучить роль и произнести ее уверенным, исполненным убежденности тоном. И ничего, коли снятый им сериал выдавал скорее понимание обратного тому, что теперь от него требуется изречь, и чего (понимания того, как работает клуб) ему как раз простить-то и не могут, всякий раз требуя подтверждения лояльности: отрицания какого-либо понимания – что действительности, что истории. В несколько ином ключе действовал американский актер (по отзывам коллег, сомнительных дарований, а впрочем достаточных для рекламы и патетики), что без похода к… гадалке («real psychic»), по свидетельству его адъютанта Дона Ригана (Don Regan, For the Record) и шагу не ступал – и еще неизвестно, не была ли ворожея направляема уверенной и непогрешимой незримой дланью демократии. Вот, кстати, чем не лишнее подтверждения вреда ворожбы и зыби предиктивности как таковой? А ведь упирается в пробабилизм, который – от ложного фатализма.
Но как последнему главе хватало рациональности на то, чтоб просмотром культовых советских кино (в т.ч. снятого Меньшовым, коему посвящена предыдущая книга серии) постигать этос Страны, которую предстояло развалить, так и этому нынешнему не откажешь в базовом понимании последствий его слов и действий (как и бездействия), ответственность за которые история – независимо от кураторства, устных предписаний извне, неформальных и внесудебных решений и полуофициального статуса временных поверенных в ранге спецатташе – возложит на него. Большую игру могут затевать крупные игроки (впрочем, и их рациональности я призывал еще и два десятка лет тому назад не «демонизировать», так как в ранней юности забавляло меня и то, что спецслужбы знают далеко не все). Но спрятаться за их невыпячиваемыми спинами мелким исполнителям и распорядителям пира не придется, да и синекур на всех едва хватит. Это показал не только Афганистан, но и пиночетовский удел, несвободный от судебных тяжб, пусть и без шансов на обвинение незримых соучастников.
Но если и не откажем номинальным главам в элементарном здравом смысле, это еще не делает их светочами мысли, экономистами или философами. В общем-то, им и самим может казаться, что незачем, дескать, разбираться в механизмах. Однако, если и касается это деятельности клуба, то вовсе не переносится на собственную вотчину. Иначе временщики и все, кто их так или иначе поддерживал морально, должны готовиться к суду – истории, Света, собственной совести как прояснения для мудрых и ада для лукавцев.
Рейган, кажется, расплатился ментальным обстоянием, и к нему едва не присоединились некоторые из условно конкурирующей партии. Досадно и печально лишь то, что подобную участь разделят иные из наиболее совестливых и неравнодушных – слишком неленостных умом и совестью на другом конце спектра.
Печально и другое: главы без царя в головах, кажется, так и продолжат отождествлять этос или первофеномен с его изнанкой, вырождением, сингулярностью. Иначе, доросши до философии, смогли бы вместить и оценить следующее. Частное способно оказаться конгруэнтным целому, но целое никогда не окажется конгруэнтным вырожденному как изнанке своей и как дальнейшему, предельному сужению частного.
Иногда верно и обратное: целое конгруэнтно частному. Тогда достаточное предстает, если и не необходимым, то – наилучшим. К примеру, Русь может оказаться взаимоконгруэнтным с Россией в главном и лучшем. Но анти-Русь, понятное дело, будет маргинальностью и радикальностью, где примитивизм сходится с экстремизмом, порождая нескончаемую череду иррелевантных метаний, суетных бунтов и революционного выметания ценностей с институтами, нередко без замещения, так что в образующийся вакуум способно прокрасться что угодно. Гедель, несомненно, нашел бы, что заявить в этой связи об изначальной аксиоматизации системы. Да и Гегель в карман не полез бы касаемо антитез избыточных, без синтеза.
Вновь и вновь возвращаюсь к своему первому англоязычному сочинению двадцативосьмилетней давности. Критикуя предсказательность вне пророческого чину, все же не могу игнорировать того структурного, что лежало на поверхности. Русский этос, возможно, будут брать лишь в «гибридное» заложничество. К примеру, безусловным вытеснением и бессмысленным изживанием. Причем не только в юрисдикциях бывших союзников (в самом деле, скорее ровни и равноправных, нежели вассалов и угнетаемых, судя по тому, как щедро империя жертвовала на периферию, отрывая от себя, и сколь рьяно хранила меньшие этосы, в т.ч. приглушением роли центрового). Вот только будет ли чем заместить и возместить? По изъятии мнимого субстрата, сохранится ли «титульная гаплогруппа»?
Посредничество и прогресс: когда цена и «ценности» превышают ценность
Многого ли стоит экономика, где на всякий малый квант добавленной стоимости приходится куда более значительный прирост то посредничества, а то – мертвого груза давновмененных издержек да остовов разорившихся предприятий, также потребивших немало ресурсов, прежде чем оказаться списанными, пусть и без формального учета в рамках эффективности? А что сказать об обществе, где, чтобы купить буханку хлеба (все более дорогого ввиду редкости продукта, все увереннее признаваемого «вредным»), потребуется нажать пятьсот клавиш, обойдя на порядок больше сетевых мошенников? Даже если при этом легкомысленно пренебречь не только на порядки же возросшим потреблением электроэнергии, обслуживающей гаджетизацию и цифровизацию («дигитизацию»), но и сопутствующие выбросы углерод-окисей всех индексов?
Кажется, это тот случай, когда обобщенная выгода, или баланс приобретений и издержек, предстает неприлично отрицательным.
Чего не предвидел даже Гегель
Но не то же ли содержится в гегельянской теории всего – не намек ли на потенциал превышения антитезисом меры и моды тезиса, когда прежнее выметаемо прежде, нежели новое вметаемо? Не в этом ли феномен революций, Перестройки как институциональной деконструкции там, где хватило бы реконструкции (в смысле реновации)? Это снова заставляет обратить взор к метафоре искаженного размена, отрицательного обобщенного баланса отдачи и рисков, выигрышей и затрат, убыточного MRTP, когда ущерб собственной рациональности поджигателя превышает планируемый масштаб поджога. Когда коктейлеметатели, хоть и склонны бывают «давить слезу» из аудитории, мимикрируя под жертв подобно азимовскому Мулу, но и сами осознают: дальнейшая (изначальная) манипуляция есть игра вкороткую, без дальнейшего расчета на короткую память соперников и союзников, праздно наблюдающих и ревностно блюдущих.
Ведь, как бы там ни было, история не следует ни жесткой необходимости (неизбежности, предопределенности, что словно снимает ответственность с квазипротестантских идеологов развязанных рук и изначально-исключительной спасенности в меру прагматичной добродетельности греха), ни обреченности на наилучшее. Последнее скорее относится к лейбницеву символу веры в «лучший из миров» (и вольтерьянскому скепсису в адрес того же), метафизике законов мироздания, что и впрямь будто оптимизированы друг по отношению к другу, словно «на ощупь» или в процессе некоей эволюции нашли совместное бытие. Но это не относится к науке, их изучающей. Коль скоро физической оптимальностью бросаема тень на целесообразность эволюции либо адекватность ее понимания в нынешнем виде, памятуя малую толику познанной, «не темной» материи и энергии. Однако, на другой чаше весов – упорное преследования подобными Талебу таких, как Платон, словно первый отрицает само наличие формального знания – всех этих довольно «рабочих» в своих областях структур, схем и регулярностей – пусть и не гарантированных от неполноты и противоречивости.
Но разрешение, как водится, в ином (третьем): история следует достаточному. Sufficientia превыше сомнительной efficientiae! В том числе – мнимо-оптимизаторской, заметающей под ковер все преизбыточные траты.
Грандиозная ошибка Запада, велий просчет Востока
Артур Викторович Шевененов
Настоящей книгой венчается трилогия ТРИ/TREis (Таутентика, Резидуаль, Истопись), как и автоморфное каждому тому установление связей между исследуемыми областями и внутри таковых. Дерзновенное предприятие отстраивания новейшей политической философии (теоретической политологии) можно полагать как начатым, так и завершенным.
Истопись. Eistopeis
Артур Викторович Шевененов
© Артур Викторович Шевененов, 2021
ISBN 978-5-0055-2643-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ИСТОПИСЬ
Жертвам пожаров климатических, поджогов геополитических,
людям и братьям меньшим,
скорбный счет коим умножен,
ускорен в преддверии Жатвы.
Представшим, пусть исподволь, учителями, – и таковыми пребывшим.
Всякому колену и племени, да пребудет любовь и взаимная нужность с каждым
EISTOPEIS
By Arthur V. Shevenyonov
To victims of climatic wildfires, prey to geopolitical arsons,
human & animal alike,
whose toll has been high & counting,
mounting amid the Latter Harvest drawing nigh.
To those proven to have taught, albeit/if unbeknownst, and so remained.
Unto each folk & every people that they may have love & appreciation extend unto & rest with all
Странности (не) должны быть странными?
Есть вещи, которые не могут не забавлять. В детстве, когда читал «Сто рассказов из русской истории», поражала «крамольная» догадка, озвучивать которую тогда, в пору позднереваншистского рывка переразвитого социализма (несомненно обреченного в силу того, что руководили рывком и осуществляли его беспринципные карьеристы, инвариантно прилаживавшиеся к любым режимам и вперед всех выкрикивавшие лозунги, всякий раз новые), было бы неосмотрительно: оказывается, «народ» не всегда прав, а случаются в его среде и вороватые, и прочие нечистые на руку, и вовсе глупые да бессовестные. Иначе отчего Петр Великий иной раз не церемонился с таковыми? Вот и Ленин как-то походя-впроброс именовал «массами» (это коробило изначально, годков с осьми; ан допускал, что лезть в путаные вопросы без знаний бывает рановато).
Разумеется, это, – как окажется позже, – скорее начальный, почти профанический или «профанный» уровень изучения, колеблющийся меж наивной эмпиристской феноменологией и логицизмом-аналитизмом. Существуют уровни и повыше: «сакральные». Которые, во избежание сваливания в петлю возврата к изжитому да ветхому, не должны редуцироваться до «сакраментального». Как ни грустен факт исторической девальвации терминов – этой более пассивной, но не менее злобной и злободневной моде подмены и хищения имен. Но достичь полноты – этой связи меж связями, – возвращающей и простоту, ясность, еще предстоит. И путь не иначе как резидуален, с сущностью чего удобнее всего ознакомиться из тезоименной первокнижицы.
В пору первой юности озадачивало иное. Так, дело было уж даже не в том, что народ готов был лить слезы, останавливая работу в поле и у станка, наблюдая за перипетиями судеб выдуманных персонажей стран далеких (географически, а впрочем – не душевно, когда эмпатия еще теплилась в этом мире и большой Стране), при этом почти равнодушно наблюдая за крушение собственных: лада, судьбы, «портфеля» экономики и «матрицы» общественных институтов, самой области выбора. Занятнее было другое: то, как русский язык продолжал еще жить невольными тщаниями националистов Прибалтики и сепаратистов Закавказья, террористов с Ближнего Востока и их инструкторов из-за океана, поставивших на наиболее вульгарную реализацию римского имперского союзничества и максимы же имперской экспансии (причем сдабривая количественное качественным, географию – институтами и языком): «divide et impera». А именно, ставку сделали на «бжезинщину» в смысле центробежных, антиимперских сил вне западного доминиона как средство укрепления центростремительности внутри такового. Национализм, цепная реакция дробления на «национальные» квазигосударства, диссоциативные (противительно-инертные) идентичности и «идеи», вложенные в уста необязательных интеллигентов-реакционеров (кстати сказать, скорее обласканных советской властью, с коей боролись, нежели притесняемых; иначе неясно, как объяснить наличие высших ученых званий вдобавок к научным степеням у тех же Гамсахурдиа и Закаева), явились тем механизмом и катализатором притупления критического мышления, что замещалось агрессивно-крикливым критиканством с непроверяемыми из сегодня посулами в отношении того, что будет завтра, стоит лишь поменять – даже разрушить – игру.
Занятно было, разумеется, то, что парадоксально роднило крах Советской империи с крушением Римской (притом, что сущности их были отнюдь не одинаковы: чем не иллюстрация «сближения в худшем», причем помимо «родственности» гнилых яблок и гнилых же апельсинов, чья гниль столь же доминирует над предпочтениями и вкусовщиной, сколь делает возможным сравнение несравнимого). Подобно тому, как гонимы были природные римляне, то же примерно постигнет этнических (прирожденных, «априорных») или, что важнее, культурных (благоприобретенных, «апостериорных») русских на постсоветском пространстве как новой, схлопнутой точки отсчета-референта, относительно коих (и ложно связываемой политической идеи, оттоле заменяемой чем угодно от западничества до этнокультурного и религиозного фундаментализма всех пошибов, неизменно симфоничных бжезинщине обобщенной) и определялись идеи-пути «национальные». Все, дескать, что доселе говорили нам, оказалось ложью; значит, все иное – правда. Бойтесь бывших друзей и союзников: они куда более непримиримы, нежели априорные враги. Но еще более следует бояться идейного вакуума (что актуально доныне): всасывает что угодно и заполняется всем, с чем пытаетесь заискивать и заигрывать, изображая – подобно римским правителям – склонность «прислушиваться» к массам и потакать их прихотям («vox populi, vox dei»).
И, подобно тому, как латынь не только не умирала долгое время, но и «умерев» и вульгаризовавшись в новых этно-преломлениях языковой дифференциации, доныне служит источником пополнения научной терминологии, нечто подобное постигло и русский язык на постсоветском пространстве и даже в глобальном масштабе. Первое проявилось в том, как все вышеперечисленные группы – националисты, террористы, фундаменталисты – переговаривались между собой не иначе как на русском попервах. (В более недавнее время освоить могли сперва технологии связи, затем и английский – эту «новую», или промежуточно-заместительную, латынь с куда меньшим числом времен и залогов, зато массой исключений, оставшихся как реликты конвенций, пришедших к узус-доминированию в разные времена. Как и прочие современные, даже претерпев ущерб совершенству в угоду практичности, язык все еще красив и потенциально вполне способен служить передаче истины даже минимумом средств. Но в том-то и состоит прискорбное знамение времени, что все чаще филигранное владение им служит искажению действительности и сокрытию фактов и аргументов, мыслей и чувств.) Другой же аспект тенденции указывает не менее иронично (если не сказать – шизофренично) на то, как же рьяно потянулись к словарикам и националисты из бывших союзных республик после кризиса 2014 купно с их кураторами: последние, – пытаясь возродить постсоветологию (похороненную бравурными одами ранне-докритического Фукуямы), первые же – ища в сетях прослыть «недовольными русскими из глубинки» в рамках реализации (manning, putting on wheels) той же, впопыхах и наспех воскрешаемой из пепла, аморфной стратегии. Чего же? Противостояния всякой критике и всякой альтернативе путем замалчивания первой и стерилизации последней. Демократия не признает критики (себя), как и рынок не приемлет (для себя) конкуренции, – причем то и другое, как эманации «невидимой руки», не склонно узреть исток в изнутреннем экзистенциальном кризисе как дефиците автоморфности. Все это было нами проговорено не раз.
Как давно озвучены были и тезисы, предлагаемые а настоящей серии (на предпринимаемой, искомой полноте в надежде обрести простоту и ясность) и ныне вещаемые со всех федеральных каналов новообращенными государственниками. Одна беда: салонные обмены остротами да уничтожающей куртуазностью (впрочем, и последняя соревнуется в редкости с грамотностью бегущей строки) едва ли эмулируют режимы научно-исследовательских конференций. А навязшие на зубах тезисы, отполированные и комфортно ложащиеся на слух элементы критики западного упадничества, трупным ядом еще способного отравить политико-экономическую среду вокруг, едва ли возмещают дефицит глубоких и контринтуитивных идей. В частности, вовсе не очевидно, что и наиболее убедительные из экспертов имеют представление о структуре сложностей и разменов (самой неопределенности) либо – еще менее вероятно – располагают пониманием областей более «технически» предметных помимо здравого смысла, заведомо губительных предпочтений и «доказательно» (задним умом, исторически обозреваемых как таковые) проигрышных путей.
На другом конце элитарного спектра (если речь о мере ответственности) комфортно же расположились политики, все чаще делающие ставку на отдельные сегменты электората и «людского капитала», – которые склонны более пересекаться, нежели нести диверсификацию и разнообразие (молодежь, «креативный класс»), – скорее в смысле заискивания. Однако, как и с посулами на будущее, леверидж заигрывания здесь действует обоюдоостро: повышая шансы «до» и задирая планку требований-ожиданий «после». Последнее работает куда подобнее знаменателю срезания, нежели числителю-мультипликатору.
Нечто схожее имеет место и вовне. Невзирая на точечные достижения – и разве что досадуя на то, что таковые имеют место как вид экстерналий по собственному недосмотру либо в силу нелинейности игры, – Запад все более утверждается в ощущении того, что имеет дело с «зарвавшимся выскочкой», этаким скоробогатым парвеню из мольеровских комедий, которые вроде как никого никуда не зовет, и скорее всего оттого, что и не ведает, куда сам грядет. В самом деле, Русь пока не выказывает признаков избрания, если и не конкретного пути, то нащупывания приемлемого, сродного себе рода оного. А раз так, то не с руки ей ни призывать (за собой или к себе), ни отзывать (от изобличаемой и доселе доминировавшей альтернативы).
В сущности, здесь вновь «зудит и жужжит» – даже не дилемма, – сумма или наложение обоих типов ошибок. Если и мыслимо обнаружение истинного и достижимого пути, Русь такового либо не видит, либо ему не следует. Запад же, если и предлагает путь ложный, то по меньшей мере делает вид, что он конкретен, осязаем и релевантен – самой демонстрируемой (сигнализируемой вовне и внутрь клуба) верой или силой предпочтений.
Congruit Multiversa?
Читатель проницательный (а иные предлагаемой нагрузки и не осилят), несомненно, уже подметил: в настоящем изложении то и дело обращаемся к сюжетам из истории «суперновой», а не то что – новейшей. Посему вот еще один совсем уж «свежий» сюжет, ценный тем (пусть и во всем своем сомнительном достоинстве, как явствует ниже), сколь часто повторяется в истории в самых, казалось бы, многоразличных проявлениях. Украинский Президент, на коего возлагались надежды большинства по прекращению затянувшегося конфликта (что само по себе отдавало утопией, поскольку речь идет о цивилизационном столкновении, завершить которое вничью один из внешних кураторов не намерен), озвучил нечто ужасное – и до скучного предсказуемое. Все, мол, кто не разделяют известных ценностей (в сущности, клубных, рядящихся под автохтонные и вклинившиеся не так давно паче исторического узуса, чем и породили раскол), должны рассмотреть возможность уехать туда, где и доминируют ими поддерживаемые ценности. Нелепо? В том-то и дело, что нет! Весь ужас в том, что все наиболее чудовищное звучит, как правило, правдоподобно. Как уже подчеркивалось, ровно так и работает мамона – эманация отца лжи, – и в том источник мощи недолжного перераспределения: власти, ресурсов, влияния. Если и согласиться, что всякая-де власть от Бога (хоть в славянском изводе более определенно выражено: «несть власть яже не от Бога» – «которая не от Бога, та и не настоящая власть», и признавать таковую – что клубную, что местно-представительскую, – как и преступные приказы исполнять, нет необходимости); даже тогда выходит: создается одним источником, перераспределяется же произведенное совсем другим. Кроме того, если и попускаемо сие свыше, то произволяемо, споспешествуемо ли?
В самом деле, ведь и разлитие желчи нацизма посткайзеровским Рейхом, и его реплика в апартеидном ЮАР осуществлялись под довольно благовидными предлогами: укорененности и автохтонности. В первом случае интеллектуалы сетовали на то, что один путь («арийский») рискует претерпеть мутации, будучи переплетен с «неарийской» пропагандой из уст неевропейских профессоров – этакая нежеланная интерференция, победа рецессивных свойств и слабейших видов в схватке с сильнейшими (чем-де не adverse selection!), передача энергии от более холодного более горячему телу. Вот и апартеид («раздельность», ср. англ. aparthood, нем. Apartheit) на словах отстаивал нежелательность для разных видов сплетаться или пересекаться, дабы самобытность каждого была явлена в рамках их моделей развития. Это ничего, если развитие-то как раз сдерживалось подтачиванием возможностей и запиранием в компактные гетто или бантустаны, резервации и социальные «стеклянные» перегородки, как происходило и в американскую приснопамятную Прогрессивную эру, и поныне бытует в перерывах между выборами.
Разумеется, украинский глава, – как и Рейган, всего лишь актер по первой профессии, – не обязан был изначально уметь все, кроме как выучить роль и произнести ее уверенным, исполненным убежденности тоном. И ничего, коли снятый им сериал выдавал скорее понимание обратного тому, что теперь от него требуется изречь, и чего (понимания того, как работает клуб) ему как раз простить-то и не могут, всякий раз требуя подтверждения лояльности: отрицания какого-либо понимания – что действительности, что истории. В несколько ином ключе действовал американский актер (по отзывам коллег, сомнительных дарований, а впрочем достаточных для рекламы и патетики), что без похода к… гадалке («real psychic»), по свидетельству его адъютанта Дона Ригана (Don Regan, For the Record) и шагу не ступал – и еще неизвестно, не была ли ворожея направляема уверенной и непогрешимой незримой дланью демократии. Вот, кстати, чем не лишнее подтверждения вреда ворожбы и зыби предиктивности как таковой? А ведь упирается в пробабилизм, который – от ложного фатализма.
Но как последнему главе хватало рациональности на то, чтоб просмотром культовых советских кино (в т.ч. снятого Меньшовым, коему посвящена предыдущая книга серии) постигать этос Страны, которую предстояло развалить, так и этому нынешнему не откажешь в базовом понимании последствий его слов и действий (как и бездействия), ответственность за которые история – независимо от кураторства, устных предписаний извне, неформальных и внесудебных решений и полуофициального статуса временных поверенных в ранге спецатташе – возложит на него. Большую игру могут затевать крупные игроки (впрочем, и их рациональности я призывал еще и два десятка лет тому назад не «демонизировать», так как в ранней юности забавляло меня и то, что спецслужбы знают далеко не все). Но спрятаться за их невыпячиваемыми спинами мелким исполнителям и распорядителям пира не придется, да и синекур на всех едва хватит. Это показал не только Афганистан, но и пиночетовский удел, несвободный от судебных тяжб, пусть и без шансов на обвинение незримых соучастников.
Но если и не откажем номинальным главам в элементарном здравом смысле, это еще не делает их светочами мысли, экономистами или философами. В общем-то, им и самим может казаться, что незачем, дескать, разбираться в механизмах. Однако, если и касается это деятельности клуба, то вовсе не переносится на собственную вотчину. Иначе временщики и все, кто их так или иначе поддерживал морально, должны готовиться к суду – истории, Света, собственной совести как прояснения для мудрых и ада для лукавцев.
Рейган, кажется, расплатился ментальным обстоянием, и к нему едва не присоединились некоторые из условно конкурирующей партии. Досадно и печально лишь то, что подобную участь разделят иные из наиболее совестливых и неравнодушных – слишком неленостных умом и совестью на другом конце спектра.
Печально и другое: главы без царя в головах, кажется, так и продолжат отождествлять этос или первофеномен с его изнанкой, вырождением, сингулярностью. Иначе, доросши до философии, смогли бы вместить и оценить следующее. Частное способно оказаться конгруэнтным целому, но целое никогда не окажется конгруэнтным вырожденному как изнанке своей и как дальнейшему, предельному сужению частного.
Иногда верно и обратное: целое конгруэнтно частному. Тогда достаточное предстает, если и не необходимым, то – наилучшим. К примеру, Русь может оказаться взаимоконгруэнтным с Россией в главном и лучшем. Но анти-Русь, понятное дело, будет маргинальностью и радикальностью, где примитивизм сходится с экстремизмом, порождая нескончаемую череду иррелевантных метаний, суетных бунтов и революционного выметания ценностей с институтами, нередко без замещения, так что в образующийся вакуум способно прокрасться что угодно. Гедель, несомненно, нашел бы, что заявить в этой связи об изначальной аксиоматизации системы. Да и Гегель в карман не полез бы касаемо антитез избыточных, без синтеза.
Вновь и вновь возвращаюсь к своему первому англоязычному сочинению двадцативосьмилетней давности. Критикуя предсказательность вне пророческого чину, все же не могу игнорировать того структурного, что лежало на поверхности. Русский этос, возможно, будут брать лишь в «гибридное» заложничество. К примеру, безусловным вытеснением и бессмысленным изживанием. Причем не только в юрисдикциях бывших союзников (в самом деле, скорее ровни и равноправных, нежели вассалов и угнетаемых, судя по тому, как щедро империя жертвовала на периферию, отрывая от себя, и сколь рьяно хранила меньшие этосы, в т.ч. приглушением роли центрового). Вот только будет ли чем заместить и возместить? По изъятии мнимого субстрата, сохранится ли «титульная гаплогруппа»?
Посредничество и прогресс: когда цена и «ценности» превышают ценность
Многого ли стоит экономика, где на всякий малый квант добавленной стоимости приходится куда более значительный прирост то посредничества, а то – мертвого груза давновмененных издержек да остовов разорившихся предприятий, также потребивших немало ресурсов, прежде чем оказаться списанными, пусть и без формального учета в рамках эффективности? А что сказать об обществе, где, чтобы купить буханку хлеба (все более дорогого ввиду редкости продукта, все увереннее признаваемого «вредным»), потребуется нажать пятьсот клавиш, обойдя на порядок больше сетевых мошенников? Даже если при этом легкомысленно пренебречь не только на порядки же возросшим потреблением электроэнергии, обслуживающей гаджетизацию и цифровизацию («дигитизацию»), но и сопутствующие выбросы углерод-окисей всех индексов?
Кажется, это тот случай, когда обобщенная выгода, или баланс приобретений и издержек, предстает неприлично отрицательным.
Чего не предвидел даже Гегель
Но не то же ли содержится в гегельянской теории всего – не намек ли на потенциал превышения антитезисом меры и моды тезиса, когда прежнее выметаемо прежде, нежели новое вметаемо? Не в этом ли феномен революций, Перестройки как институциональной деконструкции там, где хватило бы реконструкции (в смысле реновации)? Это снова заставляет обратить взор к метафоре искаженного размена, отрицательного обобщенного баланса отдачи и рисков, выигрышей и затрат, убыточного MRTP, когда ущерб собственной рациональности поджигателя превышает планируемый масштаб поджога. Когда коктейлеметатели, хоть и склонны бывают «давить слезу» из аудитории, мимикрируя под жертв подобно азимовскому Мулу, но и сами осознают: дальнейшая (изначальная) манипуляция есть игра вкороткую, без дальнейшего расчета на короткую память соперников и союзников, праздно наблюдающих и ревностно блюдущих.
Ведь, как бы там ни было, история не следует ни жесткой необходимости (неизбежности, предопределенности, что словно снимает ответственность с квазипротестантских идеологов развязанных рук и изначально-исключительной спасенности в меру прагматичной добродетельности греха), ни обреченности на наилучшее. Последнее скорее относится к лейбницеву символу веры в «лучший из миров» (и вольтерьянскому скепсису в адрес того же), метафизике законов мироздания, что и впрямь будто оптимизированы друг по отношению к другу, словно «на ощупь» или в процессе некоей эволюции нашли совместное бытие. Но это не относится к науке, их изучающей. Коль скоро физической оптимальностью бросаема тень на целесообразность эволюции либо адекватность ее понимания в нынешнем виде, памятуя малую толику познанной, «не темной» материи и энергии. Однако, на другой чаше весов – упорное преследования подобными Талебу таких, как Платон, словно первый отрицает само наличие формального знания – всех этих довольно «рабочих» в своих областях структур, схем и регулярностей – пусть и не гарантированных от неполноты и противоречивости.
Но разрешение, как водится, в ином (третьем): история следует достаточному. Sufficientia превыше сомнительной efficientiae! В том числе – мнимо-оптимизаторской, заметающей под ковер все преизбыточные траты.
Грандиозная ошибка Запада, велий просчет Востока