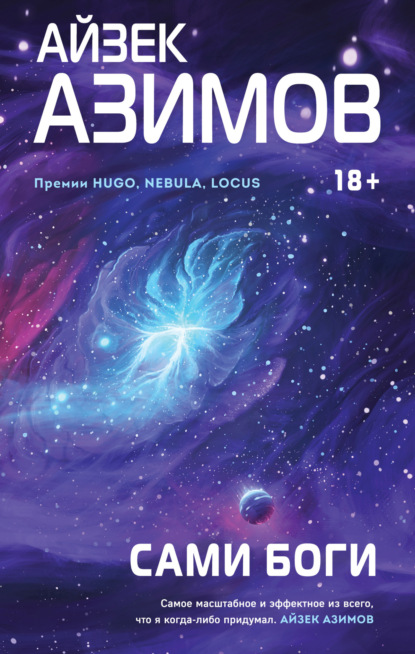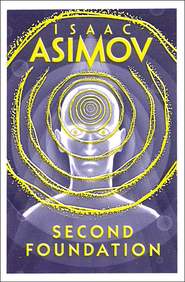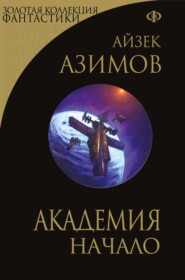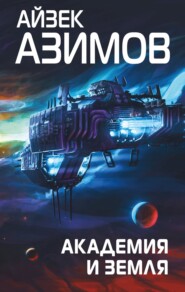По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Сами боги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ну хорошо, ты побывал у Хэллема и тебя попросили выйти вон, как и следовало ожидать. Что дальше?
– Я еще не решил. Но в любом случае его жирный зад зачешется. Я ведь был у него прежде – один раз, когда только поступил сюда, когда верил, что он – великий человек. Великий человек… Да он величайший злодей в истории пауки! Он ведь переписал историю Насоса – вот тут переписал (Ламонт постучал себя по лбу). Он уверовал в собственный вымысел и отстаивает его с упорством маньяка. Это карлик, у которого есть только один талант – уменье внушать другим, будто он великан.
Ламонт поглядел на круглое невозмутимое лицо Броновского, которое расплылось в улыбке, и принужденно засмеялся.
– Ну да словами делу не поможешь, и все это я тебе уже говорил.
– И не один раз, – согласился Броновский.
– Но меня просто трясет при мысли, что весь мир…
Глава вторая
Когда Хэллем взял в руки колбу с подмененным вольфрамом, Питеру Ламонту было два года. В двадцать пять лет, когда типографская краска его собственной диссертации была еще совсем свежа, он приступил к работе на Первой Насосной станции и одновременно получил место преподавателя на физическом факультете университета.
Для молодого человека это было блестящим началом. Правда, Первой станции не хватало технического глянца станций, построенных позже, но зато она была бабушкой их всех – всей цепи, опоясавшей планету за каких-нибудь два десятка лет. Такого стремительного скачка в масштабах всей планеты технический прогресс еще не знал, но ничего удивительного тут не было. Ведь речь шла о неограниченных запасах даровой и совершенно безопасной энергии, равно доступной для всех – волшебная лампа Аладдина, принадлежащая всему миру. Ламонт пришел на станцию, чтобы заниматься сложнейшими теоретическими проблемами, но неожиданно для себя заинтересовался поразительной историей создания Электронного Насоса и сразу столкнулся с тем фактом, что ни одна из книг, посвященных этой истории, не была написана человеком, который понимал бы его теоретические принципы (в той мере, в какой они вообще могли быть поняты) и в то же время сумел бы изложить их в доступной для широкого читателя форме. О, разумеется, сам Хэллем написал немало статей для нучно-популярных журналов и передач, но они не слагались в последовательную и полностью обоснованную историю вопроса. И Ламонт возжаждал взять эту задачу на себя.
Для начала он проштудировал статьи Хэллема, а также все опубликованные воспоминания (единственные, так сказать, официальные документы) и добрался до потрясшей мир фразы Хэллема – Великого Прозрения, как ее нередко называли, и обязательно с большой буквы.
Ну а потом, когда Ламонт пережил свое горькое разочарование, он принялся копать глубже и вскоре усомнился, что знаменитую фразу произнес действительно Хэллем. Она была сказана на семинаре, который, собственно, и привел к созданию Электронного Насоса, но выяснилось, что узнать подробности об этом историческом семинаре чрезвычайно трудно, а получить его звукозапись и вовсе невозможно.
В конце концов Ламонт заподозрил, что странная нечеткость следа, который семинар оставил в песках времен, отнюдь не случайна. Хитроумно сопоставив ряд отрывочных сведений, он пришел к выводу, что, по-видимому, нечто очень похожее на ошеломляющее заявление Хэллема, сказал Джон Ф. К. Макфарленд, и главное – раньше Хэллема.
Он отправился к Макфарленду, который вообще не фигурировал ни в одном официальном отчете и занимался теперь изучением верхних слоев атмосферы и воздействия на них солнечного ветра. Это было не самое видное положение, но у него были свои преимущества, и работа в значительной степени была связана с процессами, имеющими прямое отношение к Насосу. Макфарленд, несомненно, сумел избежать пучины безвестности, поглотившей Денисона.
Макфарленд принял Ламонта достаточно любезно и был готов беседовать с ним о чем угодно – кроме семинара. Все, что там произошло, просто изгладилось из его памяти.
Но Ламонт не отступал и перечислил факты, которые ему удалось собрать.
Макфарленд взял трубку, набил ее, тщательно проверил, плотно ли она набита, и сказал размеренно:
– Я не хочу ничего помнить, потому что это не имеет значения. Ни малейшего. Ну, предположим, я начну утверждать будто сказал что-то. Ведь никто не поверит, Я буду выглядеть как дурак – к тому же дурак, страдающий манией величия.
– А Хэллем позаботится, чтобы вас отправили на пенсию?
– Этого я не говорю, но не думаю, чтобы подобное заявление оказалось для меня очень полезным. Да и ради чего, собственно?
– Ради исторической истины, – сказал Ламонт.
– А, чушь! Историческая истина состоит в том, что Хэллем довел дело до конца. Он прямо-таки принуждал людей браться за исследования, чуть ли не против их воли. Без него этот вольфрам в конце концов, несомненно, взорвался бы, унеся уж не знаю сколько человеческих жизней. Второго образчика могло бы и не найтись, и мы не получили бы Насоса. Так что вся честь его создания принадлежит Хэллему, хотя она ему и не принадлежит, – а если это бессмысленно, то я тут ничего поделать не могу: история всегда бессмысленна.
Ламонту волей-неволей пришлось удовлетвориться этим, поскольку больше Макфарленд об Электронном Насосе и его создании говорить не пожелал.
Историческая истина!
Во всяком случае, одно, по-видимому, было неоспоримо: великая карьера «хэллемовского вольфрама» (так его теперь называли по освященному временем обычаю) началась благодаря его странной радиоактивности. Вопрос в том, вольфрам ли это и не подменили ли его, утратил всякое значение, и даже тот факт, что загадочный металл по всем характеристикам выглядел изотопом, которого не могло быть, отошел на задний план. Слишком велико было изумление перед веществом, которое демонстрировало нарастающую радиоактивность, не подходившую ни под один тип радиоактивного распада, известный в то время.
…Некоторое время спустя Кантрович пробормотал:
– Надо бы его рассредоточить. Даже небольшие куски неизбежно испарятся или взорвутся, загрязнив полгорода. А может быть, и то и другое вместе.
Поэтому вещество превратили в порошок, разделили а мельчайшие доли и смешали с порошком обычного вольфрама, а когда и обычный вольфрам стал радиоактивным, использовали графит, эффективное сечение которого гораздо ниже.
Менее чем через два месяца после того, как Хэллем заметил изменения в колбе, Кантрович прислал в «Ядерное обозрение» сообщение, подписанное и Хэллемом в качестве соавтора, об открытии плутония-186. Таким образом доброе имя Трейси было восстановлено, но в сообщении не упомянуто, – как не упоминалось оно и впредь. С этой минуты хэллемовский вольфрам начал свой стремительный путь к превращению в благодетеля человечества, а Денисон ощутил первые симптомы процесса, который в конце концов превратил его в пустое место.
Существование плутония-186 уже само по себе выглядело черт знает чем. Но первоначальная устойчивость, которая затем сменялась нарастающей радиоактивностью, была еще хуже.
Для рассмотрения этой проблемы был организован семинар под председательством Кантровича – обстоятельство, исторически небезынтересное, поскольку с тех пор любым сколько-нибудь представительным собранием, которое было так или иначе связано с Электронным Насосом, непременно руководил Хэллем. Во всяком случае, Кантрович умер пять месяцев спустя, и таким образом с пути Хэллема исчез единственный человек, обладавший достаточным престижем, чтобы удерживать его в тени.
Семинар протекал на редкость бесплодно, пока Хэллем не возвестил о своем Великом Прозрении – однако по версии, созданной Ламонтом, все решилось во время перерыва на обед. Именно тогда Макфарленд, который согласно официальной версии никаких исторических фраз не произносил (хотя на семинаре, несомненно, присутствовал), задумчиво сказал: «А знаете, тут следовало бы немножко пофантазировать. Что если…»
Он сказал это Дидерику ван Клеменсу, а тот записал их разговор в дневнике с помощью собственной стенографической системы. Но он умер задолго до того, как Ламонт начал свое расследование. И хотя эти беглые заметки полностью убедили молодого ученого, он тем не менее отдавал себе отчет, что без дополнительного подтверждения они как официальное свидетельство не стоят ничего. К тому же не было никаких доказательств, что Хэллем слышал рассуждения Макфарленда. Ламонт готов был побиться об заклад хоть на миллион, что Хэллем в ту минуту находился где-то рядом, но его готовность юридической силы не имела.
Но и сумей он это доказать, что тогда? Да, непомерное самолюбие Хэллема будет задето, но его положение останется неуязвимым. Ведь сам собой напрашивается аргумент, что Макфарленд просто фантазировал и вовсе не собирался выдвигать никакой гипотезы. Это Хэллем увидел проблеск истины. Это Хэллем не побоялся навлечь на себя град насмешек и смело провозгласил свою теорию. А Макфарленд вряд ли рискнул бы «немножко пофантазировать» на трибуне.
Ламонт, правда, мог бы возразить, что Макфарленду, молодому радиомеханику, любые публичные бредни, касающиеся ядерной физики, сошли бы с рук как неспециалисту.
Но что бы там ни было на самом деле, Хэллем, если верить официальной стенограмме, сказал следующее:
«Господа, мы зашли в тупик. А потому я намерен продолжить гипотезу – не потому, что считаю ее заведомо верной, но потому лишь, что она все-таки менее нелепа, чем все, что я слышал до сих пор… Мы имеем дело с веществом, с плутонием сто восемьдесят шесть, которое согласно физическим законам нашей вселенной вообще существовать не может, а о том, чтобы оно хоть на самое короткое время обрело устойчивость, и говорить, казалось бы, нечего. Но раз оно бесспорно существует и было сперва устойчивым, отсюда следует, То прежде оно, хотя бы какой-то срок, должно было находиться в месте, во времени или условиях, где физические законы вселенной действуют не так, как они действуют здесь и теперь. Попросту говоря, вещество, которое мы изучаем, возникло вовсе не в нашей вселенной, а в иной, альтернативной, параллельной вселенной – называйте ее как хотите.
Оказавшись здесь – каким образом это произошло, я объяснить не берусь, – оно некоторое время оставалось устойчивым, как я предполагаю, потому, что несло в себе законы своей вселенной. Тот факт, что постепенно оно стало радиоактивным и его радиоактивность все возрастает, возможно, означает, что оно медленно проникается законами нашей вселенной, если вы позволите мне так выразиться.
Я хочу напомнить, что одновременно с появлением плутония сто восемьдесят шесть бесследно исчезло некоторое количество вольфрама, состоявшего из нескольких устойчивых изотопов, включая вольфрам сто восемьдесят шесть. Возможно, этот вольфрам переместился в параллельную вселенную. Ведь логично предположить, что обмен массами произвести легче, чем осуществить одностороннее перемещение.
Быть может, в параллельной вселенной вольфрам сто восемьдесят шесть – такая же аномалия, как плутоний сто восемьдесят шесть у нас. Не исключено, что он вначале окажется устойчивым, а затем постепенно будет становиться все более радиоактивным. И может послужить там источником энергии точно так же, как плутоний сто восемьдесят шесть здесь у нас».
По-видимому, аудитория онемела от удивления – во всяком случае, Хэллема как будто никто не перебивал, и он после вышеприведенной фразы сам сделал паузу, то ли переводя дух, то ли дивясь собственной наглости.
Тут кто-то из зала (предположительно Антуан-Жером Лапен, хотя в протоколе это не отражено) спросил, верно ли он понял, что, по мнению профессора Хэллема, некие разумные существа в паравселенной сознательно произвели обмен, чтобы получить источник энергии. Вот так в язык вошло выражение «пара вселенная», возникшее, судя по всему, как сокращение сочетания «параллельная вселенная». По крайней мере до этого момента оно нигде зарегистрировано не было.
После некоторого молчания Хэллем, совсем уж закусив удила, объявил:
«Да, я так считаю. И я считаю, кроме того, что практическую пользу из подобного источника энергии можно извлечь, только если наша вселенная и паравселенная будут работать вместе, каждая у своей стороны насоса, перекачивая энергию от них к нам и от нас к ним и извлекая взаимную выгоду из различий в физических законах, действующих там и здесь».
Вот это и было сутью Великого Прозрения.
Использовав термин «паравселенная», Хэллем тем самым его присвоил. Кроме того, он первым употребил в таком смысле слово «насос» (которое с тех пор писалось только с большой буквы).
Официальная версия создаст впечатление, будто гипотеза Хэллема сразу завоевала признание, Но это было не так, Те немногие, кто вообще счел нужным высказаться по поводу ее, в лучшем случае отозвались о ней как о любопытном предположении. А Кантрович не сказал ничего. Это была решающая минута в карьере Хэллема.
Сам Хэллем, конечно, не мог разработать свою гипотезу ни в теоретическом, ни в практическом плане. Тут требовалась совместная работа многих ученых. И такие ученые нашлись. Однако вначале они избегали открыто связывать свое имя с этой гипотезой, а потом было уже поздно: когда пришел успех, широкая публика точно знала, что все сделал Хэллем и только Хэллем. В глазах всего мира Хэллем и только Хэллем открыл таинственное вещество, именно он разгадал его тайну и доказал истинность своего Великого Прозрения. А потому Хэллем и был Отцом Электронного Насоса.
Во многих лабораториях соблазнительно выкладывались крупинки вольфрама. В одной лаборатории из десяти происходила замена и появлялся новый запас плутония-186. Таким же способом предлагались и другие элементы, но эти приманки оставались нетронутыми… Однако где бы ни появился плутоний-186, кто бы ни доставил его в специальный научно-исследовательский центр, в глазах публики это была лишь новая порция «хэллемовского вольфрама».
И опять-таки Хэллем предложил широкий публике наиболее доходчивое объяснение теории паравселенной. К собственному удивлению (как он не преминул указать впоследствии), он обнаружил, что пишет весьма легко и популяризирует с удовольствием. Помимо всего прочего, успех обладает особой инерцией, и публика просто не желала получать информацию ни от кого другого.
В своей прославленной статье для воскресного еженедельника «Североамериканский тележурнал» Хэллем писал: