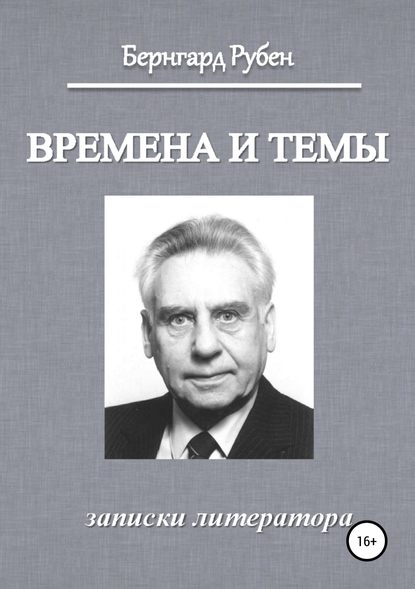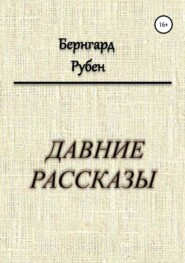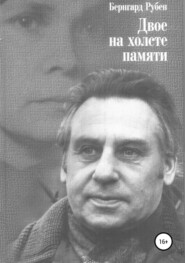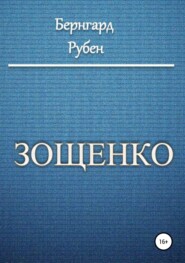По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Времена и темы. Записки литератора
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Времена и темы. Записки литератора
Бернгард Савельевич Рубен
В книге автор рассказывает о длительном процессе познания и осмысления прожитой им жизни. Эти записки – повествование о сложном и противоречивом взаимодействии глубинной сущности человека с действительностью, приводящем к личным победам и трагическим ошибкам.
…толькокажется,чточеловечествозанятоторговлей,договорами,войнами,искусствами;одноделотолько для него важно,и одно только дело оно делает – оноуясняет себете нравственные законы, которымионоживет.Нравственныезаконыужеесть,человечествотолькоуясняетихсебе,иуяснениеэтокажетсяневажныминезаметнымдлятого,кому ненуженнравственныйзакон,ктонехочетжить им.Ноэтоуяснение нравственного законаестьне только главное,ноединственное дело всегочеловечества.
ЛевТолстой.
Такчтоже нам делать?
Глава первая. Долгое прозрение
1. Путы времени
В дни похорон Сталина я, старший лейтенант, служивший в гвардейской столичной дивизии, находился в воинском оцеплении у здания Дома союзов и смог беспрепятственно пройти внутрь, в знаменитый Колонный зал, где был установлен гроб с телом Вождя. С тех пор – уже более полувека – у меня сохраняются одиннадцать блокнотных листков, заполненных мелким почерком, на которые, отстранившись от удивления, я смотрю как на документ времени, эпохи, и в этом качестве привожу их здесь, в своих нынешних записках.
10 марта 1953 г., Москва
Только сейчас, вечером 10 марта, пришел домой впервые за эти пять дней.
Как скорбно медленно они тянулись – эти траурные дни – и как беспощадно и неумолимо быстро они пронеслись…
И вот мы уже проводили в последний путь Иосифа Виссариоовича Сталина, и откровенная действительность заставляет привыкать каждого к совершенно невозможной для нас мысли, что Сталина нет с нами.
Я родился, когда вся забота о народе, и в том числе обо мне, легла на плечи товарища Сталина. И все 27 лет своей жизни я связывал имя Сталина со всеми делами, которые происходили в стране. Сталинские пятилетки, Сталинская Конституция, Великая Отечественная война – речь Сталина 3 июля, битва под Москвой, Сталинград, Курск, Десять Сталинских ударов, разгром Японии, – послевоенный план восстановления и развития страны, стройки коммунизма, борьба с засухой, полезащитные лесонасаждения, борьба за мир во всем мире…
Везде, всюду – рука, ум, воля, любовь Сталина.
В жизни своей я испытал два великих потрясения – Великая Отечественная война и смерть товарища Сталина. Первое потрясение я перенес с полной внутренней уверенностью в нашей победе. Я с самого начала войны, через самые тяжелые дни 1941—1942 годов пронес, может быть, еще наивную, но безусловную веру в победу, ибо знал, что руководит всем и отвечает за все – Сталин. Перенести смерть товарища Сталина помогает мне сейчас сознание того, что есть партия, партия Ленина – Сталина.
Сталин умер, но дело его живет. Дело Сталина непобедимо, ибо оно – правое дело. И вооруженные теорией, практикой, которые дал нам Сталин, его личным примером, мы пойдем по пути, указанному вождем, и дойдем до победы – до коммунизма. Но в эти дни вместе с уверенностью в нашей победе все мы ощущаем себя осиротевшими, потерявшими любимого и дорогого отца.
Сталин и смерть – это несовместимые понятия.
Утром 6 марта в 7 часов я услышал по радио сообщение о смерти тов. Сталина. Я знал, что его положение безнадежно. За эти дни – 3, 4, 5 марта – я научился ненавидеть такие слова, как «кислородная недостаточность»,
«аритмия», «сопорозное (глубокое бессознательное) состояние». Но мы все ждали чуда. И никто не мог допустить мысли, что Сталин умрет. Я услышал по радио скорбный голос диктора, и до меня не сразу дошло, что говорится о смерти Сталина. Я услышал рыдания мамы на диване – и тоже до меня со всей силой еще не дошло, что Сталин умер: я не мог просто ни морально, ни умственно до конца воспринять эту весть. 27 лет я, живой и здоровый, жил вместе со Сталиным, читал Сталина, слушал, что скажет Сталин, был спокоен, потому что Сталин в Кремле…
Я просто не мог переломить ни ум, ни сердце – как это так: я жив, жизнь идет, а Сталин мертв… Мысли остановились, и я понял, что в этот момент ни о чем не думаю, – самое страшное состояние – в голове пустота. Но вот пустота эта чем-то еще неясным для сознания стала наполняться.
Я вышел на улицу и увидал траурные флаги. В этот миг я представил себе портрет Сталина и ужаснулся – невозможно было в сознании соединить портрет Сталина с траурными лентами вокруг. Но первое, что я увидел, придя в полк, – портрет Сталина в траурных лентах. Портрет этот висел и вчера, и позавчера на большом щите, где вывешивались бюллетени o его здоровье. Теперь все было снято. Один портрет в траурном обрамлении.
А в голове у меня, где-то в глубине, сначала тихо, потом шире и сильнее что-то звучало, звучало, и звуки становились отчетливее, скорбные звуки похоронного марша… Весь день потом – что бы ни делал – я чувствовал и слышал звуки скорби и печали – похоронный марш Шопена.
У нас в полку было много работы в те дни – полк должен был проходить по Красной площади в день похорон.
8 марта я был в Колонном зале. 7 часов вечера. Пользуясь своей военной формой и тем, что в оцеплениях и на постах стояли наши солдаты, я подошел к Колонному залу. Вся Москва была в те дни и ночи у дверей Дома союзов. Длинный, бесконечный живой поток двигался от Курского вокзала по Садовому кольцу до улицы Чехова. Оттуда по Пушкинской улице к Колонному залу. Люди по 12 часов стояли, шли и шли, чтобы прийти в Колонный зал.
Весь Дом союзов – в венках. Венки снаружи, всё в венках внутри. Иду по лестнице вверх, на второй этаж. Красный шелк тяжелыми темными складками свешивается с потолка, протянут вместе с черным крепом от люстр к углам.
Еще из двери я увидал гроб с телом Сталина. Неподвижное лицо, седые волосы, руки сложены. У гроба на шелковых подушках – маршальская звезда, ордена, медали. Гроб наклонен, и мертвое лицо Сталина хорошо видно. Вот в этот момент, когда между мной, живым и здоровым, и лежащим в гробу товарищем Сталиным возникла таинственная сверхъестественная грань, за которую не может проникнуть мысль живого человека и с которой не может примириться его чувство, – в этот момент я впервые понял (не умом, а всем существом, душой), что Сталин умер, что случилось это совершенно невозможное трагическое событие.
Я оглянулся вокруг и увидел людей, которые, очевидно, долгое время уже находились у гроба. То остроболезненное ощущение и скорбное внимание, которое выражалось на наших лицах, тех, кто какие-то две минуты проходил мимо гроба, у них отсутствовало, ушло.
Я увидел кинорежиссера Герасимова. Он стоял в стороне и смотрел куда-то в сторону от гроба. Кто-то подошел к нему, и он повернулся, перемолвился с ним. И тут я опять с новой силой, во второй раз и уже окончательно поверил, что Сталин умер.
Они, живые, стоявшие у гроба и около, продолжали жить, чувствовать, двигаться, они были способны на действия. И хотя все их соображения и чувства, взгляды и движения были направлены на то место, где стоял гроб, были связаны с этим местом, меня вдруг поразила мысль, что все они уже не ждут никакого движения, никакого действия от мертвого неподвижного тела. Я вдруг подумал, что если бы Сталин был сейчас жив, то не было бы ни этого шествия, ни музыки, ни Колонного зала; что если бы он был сейчас жив, – все вокруг смотрели бы на него и ждали бы, что он сделает, что он скажет, куда он двинется. И никто не подошел бы к Герасимову, и Герасимов бы не смотрел в этот миг в сторону. Если бы Сталин сейчас был жив – все делалось бы по его воле, а не по воле тех, кто стоял у гроба и вокруг и исполнял свои обязанности, обязанности живых по отношению к мертвому…
Неумолима смерть. И даже гений не в силах побороть ее. Человек умирает. И тогда продолжают жить его дела, его мысли, его сердце, его пример.
Венки, венки… Я бросаю последний, прощальный взгляд на гроб с телом Сталина. Мартовские сумерки на улице. Тихо. Ни гудков автомобилей, ни разговоров. Только люди, чуть ссутулившиеся от смерти близкого родного человека, идут по улицам. Смерть Сталина – горе каждой семьи, горе всех трудящихся, мое личное горе, личная утрата. И в тишине я снова слышу траурный марш, звучащий в моем мозгу, музыку, которой живые соединяются со смертью…
9 марта я был на Красной площади. На бронетранспортерах мы проехали мимо Мавзолея, отдавая последние воинские почести своему Генералиссимусу.
В 12 часов, после пятиминутного молчания всей страны, мы завели моторы и стали подниматься по знаменитому подъему между Историческим музеем и музеем В. И. Ленина. Сколько раз я ходил на парад – каждый май и каждый ноябрь! Сколько раз я видел на трибуне товарища Сталина. Он стоял всегда в центре Мавзолея, на котором красными буквами было написано ЛЕНИН. Теперь я поднимался на Красную площадь и знал, что Сталина нет на Мавзолее, что ждать его нечего. Я увидел Молотова в черном пальто и черной шапке, Булганина, Маленкова. На Мавзолее надпись:
ЛЕНИН
СТАЛИН
На постаменте – гроб, на крышке гроба – фуражка генералиссимуса. С тяжелым чувством я проезжал мимо Мавзолея. Сегодня 11 марта. И с каждым днем все больше и больше чувствуешь, как мы осиротели, каким беззаветным другом трудящихся, каким великим человеком был Сталин и как мы все считали, что все, что он делает, что он говорит, все его качества – друга, учителя, вождя, полководца – все это так и должно было быть у него, и никто еще не думал, какие это ценные, редкие качества, какое счастье всем нам выпало жить и работать под его руководством.
Да, перед смертью все равны, но разница в том, что Сталин не умер, ибо живет в нас, дело его бессмертно, и в этом его величие.
Все это писал человек, родившийся в литературной семье (мой отец был киносценаристом и драматургом) и воспитывавшийся подле солидной домашней библиотеки, активное освоение которой началось у него еще в отрочестве, когда чтение стало страстной потребностью души. К двенадцати годам были читаны-перечитаны мушкетерские романы Дюма («Три мушкетера» я мог пересказывать наизусть почти с любой открытой наугад страницы), Вальтер Скотт, Жюль Верн (любимый герой – капитан Немо). Затем проглочен принятый в то время юношеский набор книг Марка Твена, Гюго, Диккенса, Джека Лондона, а также, конечно, «Робинзон Крузо», «Дон Кихот», «Тиль Уленшпигель», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена». Потом, тоже еще в отрочестве, в тринадцать лет была прочитана толстовская эпопея «Война и мир», а перед нею
– его «Севастопольские рассказы», ставшие для меня откровением. Помню, всю жизнь помню, с каким потрясением прочел я, двенадцатилетний, заключительные полстраницы во втором из этих рассказов («Севастополь в мае»):
Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.
Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.
Ни Калугин с своей блестящей храбростью (bravoure de gentilhomme)[1 - Храбростью дворянина (фр.).] и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший на брани за веру, престол и отечество, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест – ребенок без твердых убеждений и правил не могут быть ни злодеями, ни героями повести.
Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.
Я сидел тогда на кушетке, облокотившись о ковровый валик, на своем обычном месте для чтения. И – задохнулся, пораженный этими словами: они пронзили мою душу, отворили, отверзли ее своим волшебным ключом. Я замер, щеки мои раскраснелись от возбуждения, пальцы были холодны, сердце гулко стучало – мне казалось, что я не прочел эти слова только что в книге, а что они всегда были во мне самом и вот теперь явились из недр моей собственной души, что это – и мое чувство, моя мысль, только я не умел ее так замечательно сформулировать, но жил именно с этим чувством, с этой мыслью всегда. И какое это счастье, что, оказывается, именно так и надо думать и жить, как хорошо, что Толстой утверждает именно это, и как замечательно, что теперь я сам все это так ясно осознал… Так совершился у меня момент восприятия и открытия самой главной истины всей моей жизни. Восприятия от Толстого и открытия ее в самом себе.
Еще одно открытие – рассказы Стефана Цвейга «Письмо незнакомки», «Двадцать четыре часа из жизни женщины», «Амок»… Начался процесс познания внутреннего мира человека. Тогда же были прочитаны взахлеб «Милый друг» Мопассана и его рассказы, а также «Жан-Кристоф» Ромена Роллана, «Еврей Зюсс» и «Безобразная герцогиня» Фейхтвангера, «Генрих IV» Генриха Манна, «Декамерон» Боккаччьо (так писалась эта фамилия на академическом двухтомнике). Плюс, конечно, все, что полагалось по школьной программе до восьмого класса включительно – и Фонвизин, и Пушкин, и Грибоедов… Война застала меня на лермонтовском «Герое нашего времени», ставшем главной книгой моей юности. Но я успел еще прочесть вышедший в тот момент впервые в СССР сборник рассказов Хемингуэя.
А за год до смерти Сталина я окончил – заочно – филологический факультет Московского университета, отделение русской литературы и языка. Причем, занимаясь в московской группе студентов, имел и, конечно, использовал возможность по субботам и воскресеньям слушать лекции и проходить семинары у знаменитых тогдашних профессоров и преподавателей.
Таким образом, я был приобщен к массиву мировой литературы, который основывался на общечеловеческой нравственности и воспитывал, утверждал в людях вечные ценности. И в личных взаимоотношениях, в быту мы старались непременно следовать этим нормам поведения. Добавлю еще, что приведенные выше записи с похорон Сталина принадлежали молодому человеку двадцати семи лет, в семье которого был, так сказать, прописан юмор. Мой отец обладал легким характером, был остроумен, знал толк в розыгрыше, экспромте и даже в тяжкие для него времена не расставался с шуткой и иронией. Слыша, например, по радио о том, что товарищ Сталин – лучший друг шахтеров, металлургов или физкультурников, он мгновенно добавлял к ним еще сапожников, ассенизаторов и еще кого-нибудь в этом роде (чем в очередной раз повергал в испуг мою мать). Именно от отца услышал я первый после смерти Сталина анекдот о нем, когда из ГУЛАГа потянулись вскоре первыми ласточками отпущенные зэки, в том числе и давний друг отца: «Все мы с ужасом думали: «Что будет, что будет, если Он…» А теперь с ужасом шепчем: «Что было бы!..» Однако вот, переживал я и мыслил о Сталине так, как записал.
Как же могла образоваться у меня в сознании подобная смесь? Безусловно, вторая составляющая ее продуцировалась тотальной идеологизацией всей нашей советской жизни. Приведу эпизод из моего детства. Когда мне было года три-четыре, родители привезли меня на несколько месяцев из Ленинграда, где я родился, в Нижний Новгород к дедушке и бабушке. Моя пятидесятилетняя бабка взяла себе в помощь старую женщину, добрую и покладистую, которая относилась ко мне со всей душевностью. Так что мне представлялось, что у меня две бабушки – молодая и старая. (Действительно, моя бабка до преклонных лет была всегда подтянута, аккуратно одета, ходила в туфлях на каблуках и вела себя с достоинством и по-хозяйски.) А я был энергичный, живой мальчишка, выдумщик и организатор. И конечно, весьма восприимчивый к тому, что видел вокруг. В Ленинграде отец брал меня с собой на праздничные массовые демонстрации, которые проводились дважды в год – на 1 Мая, День солидарности трудящихся всего мира, и на 7 Ноября, годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И я затеял тут игру «в демонстрацию». Потребовал красной материи для флага, построил бабку, деда и няньку в колонну, сам встал во главе и зашагал с флагом в руке и с песней. Пел, полагаю, что-нибудь вроде «Вихри враждебные веют над нами…» или «Смело мы в бой пойдем за власть Советов…». За мной шла нянька и бормотала совсем иные слова, честила, должно быть, большевиков и их порядки и за то еще, что втемяшили в детскую голову свою бесовщину. Я же сразу это ухватил и недовольно воскликнул: «Старая бабушка, ты не то поёшь!» Об этом мне, взрослому, рассказала как-то моя бабка. Да, мы с детства уже знали, что надо петь…
Я был человеком (как и множество моих сверстников), который еще в детские годы, воспитываясь на русских народных сказках, сказках Пушкина, баснях Крылова, в то же самое время впитывал в себя революционные понятия и тематику, носил звездочку октябренка, затем, в отрочестве, стал юным пионером и ходил в школу и общественные места в красном галстуке, жил осененный словами провозглашаемой признательности: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» и, конечно, прекрасно знал имя замечательной девочки-узбечки, которую товарищ Сталин на многочисленных фотографиях, картинах, плакатах
держал на руках. В эти же тридцатые годы по радио и с эстрадных подмостков детские и юношеские голоса с чувством скандировали такой лозунг дня: «Пять – в четыре, пять – в четыре, пять – в четыре, а не в пять!». Это о том, что объявленные пятилетние планы строительства социализма в нашей стране должны и несомненно будут выполняться в четыре года. Пятилетки, как и Конституция и все замечательные свершения, были, конечно, «сталинскими». Как и лучшие люди: герои-летчики – «сталинские соколы».
Бернгард Савельевич Рубен
В книге автор рассказывает о длительном процессе познания и осмысления прожитой им жизни. Эти записки – повествование о сложном и противоречивом взаимодействии глубинной сущности человека с действительностью, приводящем к личным победам и трагическим ошибкам.
…толькокажется,чточеловечествозанятоторговлей,договорами,войнами,искусствами;одноделотолько для него важно,и одно только дело оно делает – оноуясняет себете нравственные законы, которымионоживет.Нравственныезаконыужеесть,человечествотолькоуясняетихсебе,иуяснениеэтокажетсяневажныминезаметнымдлятого,кому ненуженнравственныйзакон,ктонехочетжить им.Ноэтоуяснение нравственного законаестьне только главное,ноединственное дело всегочеловечества.
ЛевТолстой.
Такчтоже нам делать?
Глава первая. Долгое прозрение
1. Путы времени
В дни похорон Сталина я, старший лейтенант, служивший в гвардейской столичной дивизии, находился в воинском оцеплении у здания Дома союзов и смог беспрепятственно пройти внутрь, в знаменитый Колонный зал, где был установлен гроб с телом Вождя. С тех пор – уже более полувека – у меня сохраняются одиннадцать блокнотных листков, заполненных мелким почерком, на которые, отстранившись от удивления, я смотрю как на документ времени, эпохи, и в этом качестве привожу их здесь, в своих нынешних записках.
10 марта 1953 г., Москва
Только сейчас, вечером 10 марта, пришел домой впервые за эти пять дней.
Как скорбно медленно они тянулись – эти траурные дни – и как беспощадно и неумолимо быстро они пронеслись…
И вот мы уже проводили в последний путь Иосифа Виссариоовича Сталина, и откровенная действительность заставляет привыкать каждого к совершенно невозможной для нас мысли, что Сталина нет с нами.
Я родился, когда вся забота о народе, и в том числе обо мне, легла на плечи товарища Сталина. И все 27 лет своей жизни я связывал имя Сталина со всеми делами, которые происходили в стране. Сталинские пятилетки, Сталинская Конституция, Великая Отечественная война – речь Сталина 3 июля, битва под Москвой, Сталинград, Курск, Десять Сталинских ударов, разгром Японии, – послевоенный план восстановления и развития страны, стройки коммунизма, борьба с засухой, полезащитные лесонасаждения, борьба за мир во всем мире…
Везде, всюду – рука, ум, воля, любовь Сталина.
В жизни своей я испытал два великих потрясения – Великая Отечественная война и смерть товарища Сталина. Первое потрясение я перенес с полной внутренней уверенностью в нашей победе. Я с самого начала войны, через самые тяжелые дни 1941—1942 годов пронес, может быть, еще наивную, но безусловную веру в победу, ибо знал, что руководит всем и отвечает за все – Сталин. Перенести смерть товарища Сталина помогает мне сейчас сознание того, что есть партия, партия Ленина – Сталина.
Сталин умер, но дело его живет. Дело Сталина непобедимо, ибо оно – правое дело. И вооруженные теорией, практикой, которые дал нам Сталин, его личным примером, мы пойдем по пути, указанному вождем, и дойдем до победы – до коммунизма. Но в эти дни вместе с уверенностью в нашей победе все мы ощущаем себя осиротевшими, потерявшими любимого и дорогого отца.
Сталин и смерть – это несовместимые понятия.
Утром 6 марта в 7 часов я услышал по радио сообщение о смерти тов. Сталина. Я знал, что его положение безнадежно. За эти дни – 3, 4, 5 марта – я научился ненавидеть такие слова, как «кислородная недостаточность»,
«аритмия», «сопорозное (глубокое бессознательное) состояние». Но мы все ждали чуда. И никто не мог допустить мысли, что Сталин умрет. Я услышал по радио скорбный голос диктора, и до меня не сразу дошло, что говорится о смерти Сталина. Я услышал рыдания мамы на диване – и тоже до меня со всей силой еще не дошло, что Сталин умер: я не мог просто ни морально, ни умственно до конца воспринять эту весть. 27 лет я, живой и здоровый, жил вместе со Сталиным, читал Сталина, слушал, что скажет Сталин, был спокоен, потому что Сталин в Кремле…
Я просто не мог переломить ни ум, ни сердце – как это так: я жив, жизнь идет, а Сталин мертв… Мысли остановились, и я понял, что в этот момент ни о чем не думаю, – самое страшное состояние – в голове пустота. Но вот пустота эта чем-то еще неясным для сознания стала наполняться.
Я вышел на улицу и увидал траурные флаги. В этот миг я представил себе портрет Сталина и ужаснулся – невозможно было в сознании соединить портрет Сталина с траурными лентами вокруг. Но первое, что я увидел, придя в полк, – портрет Сталина в траурных лентах. Портрет этот висел и вчера, и позавчера на большом щите, где вывешивались бюллетени o его здоровье. Теперь все было снято. Один портрет в траурном обрамлении.
А в голове у меня, где-то в глубине, сначала тихо, потом шире и сильнее что-то звучало, звучало, и звуки становились отчетливее, скорбные звуки похоронного марша… Весь день потом – что бы ни делал – я чувствовал и слышал звуки скорби и печали – похоронный марш Шопена.
У нас в полку было много работы в те дни – полк должен был проходить по Красной площади в день похорон.
8 марта я был в Колонном зале. 7 часов вечера. Пользуясь своей военной формой и тем, что в оцеплениях и на постах стояли наши солдаты, я подошел к Колонному залу. Вся Москва была в те дни и ночи у дверей Дома союзов. Длинный, бесконечный живой поток двигался от Курского вокзала по Садовому кольцу до улицы Чехова. Оттуда по Пушкинской улице к Колонному залу. Люди по 12 часов стояли, шли и шли, чтобы прийти в Колонный зал.
Весь Дом союзов – в венках. Венки снаружи, всё в венках внутри. Иду по лестнице вверх, на второй этаж. Красный шелк тяжелыми темными складками свешивается с потолка, протянут вместе с черным крепом от люстр к углам.
Еще из двери я увидал гроб с телом Сталина. Неподвижное лицо, седые волосы, руки сложены. У гроба на шелковых подушках – маршальская звезда, ордена, медали. Гроб наклонен, и мертвое лицо Сталина хорошо видно. Вот в этот момент, когда между мной, живым и здоровым, и лежащим в гробу товарищем Сталиным возникла таинственная сверхъестественная грань, за которую не может проникнуть мысль живого человека и с которой не может примириться его чувство, – в этот момент я впервые понял (не умом, а всем существом, душой), что Сталин умер, что случилось это совершенно невозможное трагическое событие.
Я оглянулся вокруг и увидел людей, которые, очевидно, долгое время уже находились у гроба. То остроболезненное ощущение и скорбное внимание, которое выражалось на наших лицах, тех, кто какие-то две минуты проходил мимо гроба, у них отсутствовало, ушло.
Я увидел кинорежиссера Герасимова. Он стоял в стороне и смотрел куда-то в сторону от гроба. Кто-то подошел к нему, и он повернулся, перемолвился с ним. И тут я опять с новой силой, во второй раз и уже окончательно поверил, что Сталин умер.
Они, живые, стоявшие у гроба и около, продолжали жить, чувствовать, двигаться, они были способны на действия. И хотя все их соображения и чувства, взгляды и движения были направлены на то место, где стоял гроб, были связаны с этим местом, меня вдруг поразила мысль, что все они уже не ждут никакого движения, никакого действия от мертвого неподвижного тела. Я вдруг подумал, что если бы Сталин был сейчас жив, то не было бы ни этого шествия, ни музыки, ни Колонного зала; что если бы он был сейчас жив, – все вокруг смотрели бы на него и ждали бы, что он сделает, что он скажет, куда он двинется. И никто не подошел бы к Герасимову, и Герасимов бы не смотрел в этот миг в сторону. Если бы Сталин сейчас был жив – все делалось бы по его воле, а не по воле тех, кто стоял у гроба и вокруг и исполнял свои обязанности, обязанности живых по отношению к мертвому…
Неумолима смерть. И даже гений не в силах побороть ее. Человек умирает. И тогда продолжают жить его дела, его мысли, его сердце, его пример.
Венки, венки… Я бросаю последний, прощальный взгляд на гроб с телом Сталина. Мартовские сумерки на улице. Тихо. Ни гудков автомобилей, ни разговоров. Только люди, чуть ссутулившиеся от смерти близкого родного человека, идут по улицам. Смерть Сталина – горе каждой семьи, горе всех трудящихся, мое личное горе, личная утрата. И в тишине я снова слышу траурный марш, звучащий в моем мозгу, музыку, которой живые соединяются со смертью…
9 марта я был на Красной площади. На бронетранспортерах мы проехали мимо Мавзолея, отдавая последние воинские почести своему Генералиссимусу.
В 12 часов, после пятиминутного молчания всей страны, мы завели моторы и стали подниматься по знаменитому подъему между Историческим музеем и музеем В. И. Ленина. Сколько раз я ходил на парад – каждый май и каждый ноябрь! Сколько раз я видел на трибуне товарища Сталина. Он стоял всегда в центре Мавзолея, на котором красными буквами было написано ЛЕНИН. Теперь я поднимался на Красную площадь и знал, что Сталина нет на Мавзолее, что ждать его нечего. Я увидел Молотова в черном пальто и черной шапке, Булганина, Маленкова. На Мавзолее надпись:
ЛЕНИН
СТАЛИН
На постаменте – гроб, на крышке гроба – фуражка генералиссимуса. С тяжелым чувством я проезжал мимо Мавзолея. Сегодня 11 марта. И с каждым днем все больше и больше чувствуешь, как мы осиротели, каким беззаветным другом трудящихся, каким великим человеком был Сталин и как мы все считали, что все, что он делает, что он говорит, все его качества – друга, учителя, вождя, полководца – все это так и должно было быть у него, и никто еще не думал, какие это ценные, редкие качества, какое счастье всем нам выпало жить и работать под его руководством.
Да, перед смертью все равны, но разница в том, что Сталин не умер, ибо живет в нас, дело его бессмертно, и в этом его величие.
Все это писал человек, родившийся в литературной семье (мой отец был киносценаристом и драматургом) и воспитывавшийся подле солидной домашней библиотеки, активное освоение которой началось у него еще в отрочестве, когда чтение стало страстной потребностью души. К двенадцати годам были читаны-перечитаны мушкетерские романы Дюма («Три мушкетера» я мог пересказывать наизусть почти с любой открытой наугад страницы), Вальтер Скотт, Жюль Верн (любимый герой – капитан Немо). Затем проглочен принятый в то время юношеский набор книг Марка Твена, Гюго, Диккенса, Джека Лондона, а также, конечно, «Робинзон Крузо», «Дон Кихот», «Тиль Уленшпигель», «Гаргантюа и Пантагрюэль», «Удивительные приключения барона Мюнхгаузена». Потом, тоже еще в отрочестве, в тринадцать лет была прочитана толстовская эпопея «Война и мир», а перед нею
– его «Севастопольские рассказы», ставшие для меня откровением. Помню, всю жизнь помню, с каким потрясением прочел я, двенадцатилетний, заключительные полстраницы во втором из этих рассказов («Севастополь в мае»):
Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его.
Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.
Ни Калугин с своей блестящей храбростью (bravoure de gentilhomme)[1 - Храбростью дворянина (фр.).] и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя и павший на брани за веру, престол и отечество, ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест – ребенок без твердых убеждений и правил не могут быть ни злодеями, ни героями повести.
Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, – правда.
Я сидел тогда на кушетке, облокотившись о ковровый валик, на своем обычном месте для чтения. И – задохнулся, пораженный этими словами: они пронзили мою душу, отворили, отверзли ее своим волшебным ключом. Я замер, щеки мои раскраснелись от возбуждения, пальцы были холодны, сердце гулко стучало – мне казалось, что я не прочел эти слова только что в книге, а что они всегда были во мне самом и вот теперь явились из недр моей собственной души, что это – и мое чувство, моя мысль, только я не умел ее так замечательно сформулировать, но жил именно с этим чувством, с этой мыслью всегда. И какое это счастье, что, оказывается, именно так и надо думать и жить, как хорошо, что Толстой утверждает именно это, и как замечательно, что теперь я сам все это так ясно осознал… Так совершился у меня момент восприятия и открытия самой главной истины всей моей жизни. Восприятия от Толстого и открытия ее в самом себе.
Еще одно открытие – рассказы Стефана Цвейга «Письмо незнакомки», «Двадцать четыре часа из жизни женщины», «Амок»… Начался процесс познания внутреннего мира человека. Тогда же были прочитаны взахлеб «Милый друг» Мопассана и его рассказы, а также «Жан-Кристоф» Ромена Роллана, «Еврей Зюсс» и «Безобразная герцогиня» Фейхтвангера, «Генрих IV» Генриха Манна, «Декамерон» Боккаччьо (так писалась эта фамилия на академическом двухтомнике). Плюс, конечно, все, что полагалось по школьной программе до восьмого класса включительно – и Фонвизин, и Пушкин, и Грибоедов… Война застала меня на лермонтовском «Герое нашего времени», ставшем главной книгой моей юности. Но я успел еще прочесть вышедший в тот момент впервые в СССР сборник рассказов Хемингуэя.
А за год до смерти Сталина я окончил – заочно – филологический факультет Московского университета, отделение русской литературы и языка. Причем, занимаясь в московской группе студентов, имел и, конечно, использовал возможность по субботам и воскресеньям слушать лекции и проходить семинары у знаменитых тогдашних профессоров и преподавателей.
Таким образом, я был приобщен к массиву мировой литературы, который основывался на общечеловеческой нравственности и воспитывал, утверждал в людях вечные ценности. И в личных взаимоотношениях, в быту мы старались непременно следовать этим нормам поведения. Добавлю еще, что приведенные выше записи с похорон Сталина принадлежали молодому человеку двадцати семи лет, в семье которого был, так сказать, прописан юмор. Мой отец обладал легким характером, был остроумен, знал толк в розыгрыше, экспромте и даже в тяжкие для него времена не расставался с шуткой и иронией. Слыша, например, по радио о том, что товарищ Сталин – лучший друг шахтеров, металлургов или физкультурников, он мгновенно добавлял к ним еще сапожников, ассенизаторов и еще кого-нибудь в этом роде (чем в очередной раз повергал в испуг мою мать). Именно от отца услышал я первый после смерти Сталина анекдот о нем, когда из ГУЛАГа потянулись вскоре первыми ласточками отпущенные зэки, в том числе и давний друг отца: «Все мы с ужасом думали: «Что будет, что будет, если Он…» А теперь с ужасом шепчем: «Что было бы!..» Однако вот, переживал я и мыслил о Сталине так, как записал.
Как же могла образоваться у меня в сознании подобная смесь? Безусловно, вторая составляющая ее продуцировалась тотальной идеологизацией всей нашей советской жизни. Приведу эпизод из моего детства. Когда мне было года три-четыре, родители привезли меня на несколько месяцев из Ленинграда, где я родился, в Нижний Новгород к дедушке и бабушке. Моя пятидесятилетняя бабка взяла себе в помощь старую женщину, добрую и покладистую, которая относилась ко мне со всей душевностью. Так что мне представлялось, что у меня две бабушки – молодая и старая. (Действительно, моя бабка до преклонных лет была всегда подтянута, аккуратно одета, ходила в туфлях на каблуках и вела себя с достоинством и по-хозяйски.) А я был энергичный, живой мальчишка, выдумщик и организатор. И конечно, весьма восприимчивый к тому, что видел вокруг. В Ленинграде отец брал меня с собой на праздничные массовые демонстрации, которые проводились дважды в год – на 1 Мая, День солидарности трудящихся всего мира, и на 7 Ноября, годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. И я затеял тут игру «в демонстрацию». Потребовал красной материи для флага, построил бабку, деда и няньку в колонну, сам встал во главе и зашагал с флагом в руке и с песней. Пел, полагаю, что-нибудь вроде «Вихри враждебные веют над нами…» или «Смело мы в бой пойдем за власть Советов…». За мной шла нянька и бормотала совсем иные слова, честила, должно быть, большевиков и их порядки и за то еще, что втемяшили в детскую голову свою бесовщину. Я же сразу это ухватил и недовольно воскликнул: «Старая бабушка, ты не то поёшь!» Об этом мне, взрослому, рассказала как-то моя бабка. Да, мы с детства уже знали, что надо петь…
Я был человеком (как и множество моих сверстников), который еще в детские годы, воспитываясь на русских народных сказках, сказках Пушкина, баснях Крылова, в то же самое время впитывал в себя революционные понятия и тематику, носил звездочку октябренка, затем, в отрочестве, стал юным пионером и ходил в школу и общественные места в красном галстуке, жил осененный словами провозглашаемой признательности: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» и, конечно, прекрасно знал имя замечательной девочки-узбечки, которую товарищ Сталин на многочисленных фотографиях, картинах, плакатах
держал на руках. В эти же тридцатые годы по радио и с эстрадных подмостков детские и юношеские голоса с чувством скандировали такой лозунг дня: «Пять – в четыре, пять – в четыре, пять – в четыре, а не в пять!». Это о том, что объявленные пятилетние планы строительства социализма в нашей стране должны и несомненно будут выполняться в четыре года. Пятилетки, как и Конституция и все замечательные свершения, были, конечно, «сталинскими». Как и лучшие люди: герои-летчики – «сталинские соколы».