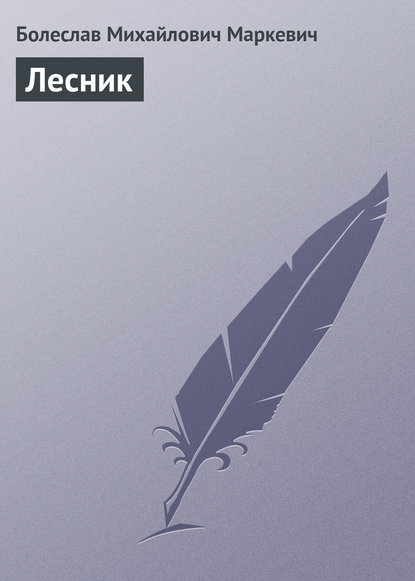По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лесник
Год написания книги
1880
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Я его сейчас видела, перебила Пинна Афанасьевна, – он безумствует, я с ним даже поссорилась и уехала… Она вдруг засмеялась под приливом какого-то, всю ее разом охватившего теперь, бесконечно радостного чувства: – вот мы теперь и помиримся… Ах, как-же будет он рад… Да вы это верно, верно, говорите, Спиридон Иваныч? заспешила она; – и отчего он это в городе очутился, и как же два дня его искали всем селом и на след не попали, и эта шляпа его тут над Логом, а его нет…
– Сказываю вам, чудом, Пинна Афанасьевна; действительно, что окроме Бога, Спаса нашего, никому того не возможно приписать.
Пинна Афанасьевна, как известно, смотрела свысока на подобного рода «предразсудки». Но в эту минуту она чувствовала себя такою счастливою, что готова была и в них поверить, да и уж очень любопытно было ей узнать скорее, в чем именно состояло «чудо».
– Вот что, Спиридон Иваныч, сказала она, – привяжите вашу вятку к задку моей тележки, а сами садитесь ко мне. Я сейчас оберну. Вы мне дорогой всю эту историю и расскажете… Господи, как-же это хорошо, что он нашелся!
– Истинно так, Пинна Афанасьевна! А я вам с моим удовольствием, как следует, передам.
– Сидим-с это мы с Софроном Артемьичем, начал он, когда, уместившись рядом с нею, покатили они по направлению Лога, на берегу которого заполчаса пред тем оставила девушка своего «безумствующаго» поклонника, – сидим-с, сами изволите понимать, на подоби, можно сказать, так как у псалмопевца сказано: «на реках Вавилонских седохом и плакахом»… И вдруг-с раздается колоколец, и к нам на двор пара, и видим Николай Дмитрич, может изволите знать, письмоводитель господина исправника. Сейчас к Софрону Артемьичу, – письмо, а сам ничего не говорит, только этакая усмешка лукавая под усами и глядит нам прямо в глаза. А Софрон Артемьич как только вскрыл конверт, да по письму повел глазами, так я, грешный человек, даже подумал, что они тут, не дай Бог, ума лишатся…
– От радости, разумеется? перебила еще раз Пинна Афанасьевна; – да рассказывайте скорее, голубчик! подгоняла она его.
Конторщик чуть-чуть сконфузился и продолжал:
– Дело это, собственно говоря, так вышло… Управляющего графа Клейнгельма, Василья Ивановича Брауна изволите знать?
– Нет, не знаю. А слышала…
– Человек настоящий, можно сказать, правильный…. Только вот этот самый господин Браун, как у нас постоянно бывает надобность по делам в город, и вздумали они поехать с винокуром ихним, – тоже из немцев, фамилия ему Клейст. В самый, то есть, это вечер, когда случилось это самое с Валентином Алексеичем – третьего дня значит… А дорога им от графского имения мимо нашего Крусанова на Вислоухово, – а оттелева до города еще верст пятнадцать и подалее будет. Только у этого самого Василья Иваныча Брауна кучер – мудреный этакий, знаете, нравный, твердый человек, а только уж упрям очень. Занялись этто Василий Иваныч, разговорились с винокуром и не заметили, как он вдруг, этот самый кучер, заместо как всегда по дороге прямо, не доезжая Крусанова, да влево возьми в объезд. Только, проехамши так с версту, оглянулись: «Ты, говорит, кудажь это теперь прешь?» А тот ему на это: «А тут, говорит, ближе много будет». – «Да что ты, говорят ему, тут и дороги проезжей нет». – «Чего нет, бормочет, проедем, не извольте беспокоиться». А оно действительно, что тут крестьяне постоянно проезжают зимою, а летом избегают, потому по-над самым Ведьминым Логом, – с той его стороны, значит, дорога эта ведет, – ну, а они, особенно если вечером, опасаются по своему суеверию… так и оставил Василий Иваныч, только говорит ему: «Смотри, гроза вот сейчас, как бы нам не засесть в каком месте». – «Ничего, говорит, проедем»!.. И по истине, можно сказать, Пинна Афанасьевна (Спиридон Иваныч снял картуз и истово перекрестился), что сам Творец Небесный направил их по этой самой дороге. Потому только они к этому месту по-над Логом подъезжать стали, как хлыснет вдруг молния, да с этим дождище, – ну, ну изволите сами знать, что за страсть в эту пору была!.. Взлобок тут есть один, подняться надо, а оттедова спустясь, сейчас круто вправо принять требуется, опять на-подъем, лесом. Вот взъехали они, – спускаться начали… А тут повернуть куда – и не видать. Потому чаща, да темь эта вдруг сделалась, и сверху-то гремит, льет вода ведрами, – ад кромешный, просто страхота! Ни вперед, ни взад, – не дай Господи!.. И Спиридон Иваныч перекрестился еще раз.
– Ах, Господи, как вы томительно рассказываете! воскликнула девушка; – винокур какой-то, Василий Иваныч, кучер, – при чем они тут? Я вас про вашего Валентина Алексеича просила рассказать…
– А вот-с, вы извольте дослушать, благодушно усмехнулся на это многоречивый вонторщив, так и все узнаете… В этом, значит, находясь затруднении, что ни туда, ни сюда, решились они переждать, пока гроза пройдет. Подняли верх, фартук пристегнули, – хорошая у них бричка, венская, по случаю, знаю, в Витебске купили от одного пана, – ждут. Кучер перед лошадьми, до костей промок, – а все стоит потому опасно, от ударов этих, от грома дрожмя ажно дрожат кони, так чтобы не вскинулись вдруг, не расшибли… Вот-с таким манером и не час, не два пришлось им тут простоять, будто в колодезе каком-то, потому вода и сверху и снизу. Берег-то тот, изволите знать, гораздо возвышеннее супротив того, что от Хомяков, по которому Валентин Алексеич, по встрече с вами, отправился; одначе от того количества воды и его затоплять стало, – до самой почти их брички, поверите, приливала, а так, сказывают они, почитать надо, что от самого этого места, где стояли они, шагов полтораста, если и не более, от настоящего, в сухое, то есть, время, берега должно быть…
– Ну, а Валентин Алексеич где-же? даже притопнула с досады ногою по дну своей нетычанки нетерпеливая Пинна Афанасьевна.
– Вот-с, вот-с тут самое сейчас и о них… так-с пока они тут в темноте, да в сырости и большом, можно сказать, страхе пребывали, и начало наконец стихать, удаляться гром стал… Вдруг слышат неподалеку от них собака визжит, да так жалостно, говорят, будто человек стонет… Василий Иваныч этто слушал, слушал: – «Вынь, говорит кучеру, фонарь, подь сюда!» – а у них-то, докладывал вам, бричка хорошая, как надо быть, со всем прибором, с фонарями. Взял он его себе под фартук, добыл спичек, и хоть с трудом, потому сами понимаете, мокреть ведь, зажег свечку в нем. «На, говорит, иди на вой, что за пес»! – а сам возжи в руки взял. Вот-с кучер, взямши этот самый фонарь, да по воде по-щиколку, говорю, залило все кругом, – и побрел, значит, на этот, так сказать, глас песий… Видит, действительно, пестрое быдто пятно к дереву прислонилась, носом книзу уткнувшись, скулит. Он ближе, – охотницкая собака в ошейнике, сетерок белый с пятнами…
– Его Джим! воскликнула девушка.
– Точно так-с! И Спиридон Иваныч с большой радостью припрыгнул всем телом на своем, сиденьи, – самое вот это есть необнаковенное обстоятельство. Потому еслиб не собаченка эта, и что этот самый господин Браун, Василий Иваныч, по мягкосердью душевному обратил внимание, то так бы…
Он не договорил, заметив все более и более возрастающее нетерпение в чертах своей спутницы, и заспешил опять к фактической стороне своего рассказа:
– Стал ее кучер звать, – нейдет – визжит все также жалостливо, хвостом машет и носом будто что указывает. Он фонарь свой поднял, кругом обвел… да вдруг как крикнет: «Мертвец!» Сам-то чуть с ног не свалился. говорит, так испужался… Услышавши это, Василий Иваныч сейчас винокуру возжи передал, сам выскочил, подбегает… Лежит, действительно, некий человек ничком, по пояс в воде, а рука за корень дубовый уцепилась, да и замертвела на нем…
– Это был Валентин Аиексеич?
Конторщик таинственно и как бы даже с лукавством повел головою:
– Неизвестное им, собственно сказать, лицо-с.
– Как же он очутился тут?
– А так понимать надо, что течением, а главное вихрем пронесло его поверх Лога, да и прибило к этому самому берегу. И даже просто удивления достойно, какая это сила воды, что не дала его засосать трясине… Василий Иваныч, между тем, как человек образованный, осмотревши тело, поняли так, что может он и не помер еще вовсе, а только от немощи от большой чувств своих лишился. «Давай, говорит, кучеру, сейчас его из воды вытащим». И тут, говорят, долго-ужасть бились они, пока пальцы-то его, главное, от корня отцепили… Перенесли на место повыше, да посуше. Василий Иваныч растирать велел да коньяк – потому что это уж с ним неразлучно в дороге, – влил ему в горло, мокрую с него куртку охотницкую снял, в плэд свой обернул. Дождьто на их счастье в это самое время перестал лить. Запустил он ему руку под сорочку: «Бьется, говорит, сердце, жив.» И тут, как тело, значит, отогреваться стало, – глядят они, а у него из головы и полилась кровь из раны; в первой-то они не заметили, оттого что он коченеть начинал, и кровь застыла. Василий Иваныч, как умел, перевязал ее платком своим. «Ну, говорит опять кучеру, беспременно теперь ехать надо, лишь бы довести его живого в город. Ты, говорит, иди вперед пешой с фонарем, дорогу показывай, а мы за тобой тихонько поедем». Тут, говорит тот, с полверсты не более низом вязко будет, а там, как подняться только, поля пойдут, гладь до самого города, верст пять, почитай, не более. Ну, хорошо; подняли они его опять, в бричку положили, а с ними и этого самого бедняжку пса ихнего, Джимку. Василий Иваныч с ними сел, а винокура посадили на козлы, поехали. Только хотя тот их кучер говорил «проедем» да «проедем», а они до самого рассвета бились, пока до города доползли. У Василия Иваныча там своя квартира постоянная нанята. Привез он их туда; сейчас за доктором, за Казимиром Степановичем, господином Подгурским, – изволите знать? – потому дорогою, к ним, можно сказать, жизнь вернулась, дышать стали свободно, только совсем без сознания, ни говорить, ни глаз раскрыть. А доктора в городе нет: уехал с следователем на следствие в Коврово. Беда, да и только! За фельдшером в больницу, насилу добудились. Пришел, говорит: крови много потеряли, оттого… Залепил пластырем рану, велел в голове лед в пузыре прикладывать…
– Чего же это ваш Василий Иваныч нарочного в Темный Кут не прислал, известить об этом обо всем?
– А чего же ему присылать, возразил Спиридон Иваныч, – когда он Валентина Алексеича и в глаза никогда не видал и знать не мог, кто они и даже совсем другое сумнение у него было…
– Какое «сумнение»?
Спиридон Иваныч принял самый внушительный вид и, наклонясь в уху своей спутницы, прошептал:
– Так, значит, полагал, что это может не убивство ли из политики, потому, изволите знать, в Мглинском уезде многих из этих самых нигилистов недавно жандармы забрали.
– Какая глупость! так и фырвнула Пинна Афанасьевна: – из чего он это вздумал?
– Рана эта ихняя, главное, и что в Логу найден… нечаевский процесс изволили читать? так по подобию. Василий Иваныч в скорости отказались от этих мыслей, потому рассудили так, что «белье тонкое и руки барския»…
– Откуда вы все это так подробно знаете? спросила девушка.
– А как же, помилуйте, господин исправник нарочито для этого письмоводителя своего, Никодима Дмитрича, к Софрону Артемьичу прислали, так как они, в Коврове будучи, от Софрона Артемьича донесение получили об этом самом, тоись, про Валентина Алексеича, а тут же, в город вернувшись, от господина Брауна, Василия Иваныча, настоящее услышали, который, в присутствии этого самого Никодима Дмитрича, господину исправнику про все это до малости рассказал.
– А что же сам Валентин Алексеич?
– Только нынешним утром пришли в себя вполне. А тут и доктор Казимир Станиславич из Боврова тоже вернулись… Слава Творцу Небесному, живы и в здравии останутся. А теперь пока очень слабы, только в полном уме, но говорят еще с трудом. Из их непространных слов так понять должно, что их уже (Спиридон Иваныч весь вздрогнул при этом,) забирало в самую трясину, как вдруг подхватило опять течение, только они ничего уж этого не помнят, окромя того, что почувствовали, как во сне, сильный удар в голову, а тут свет и совсем выкатился из их глаз. А Казимир Станиславич объясняют так, что ударило их импетом в этот самый корень и прошибло голову, – и даже, говорит этот самый доктор, господин Подгурский, что это к их спасенью произошло, потому кровь пошла, а что иначе, говорят, сотрясение бы мозга к самому бы худому концу могло привести. А теперича он за них ручается и…
Пинна Афанасьевна не дала ему кончить:
– Ну, и слава Богу, пусть живет себе, а главное, что мой Иван Николаич опять цветком-пионом расцветет у меня… Она расхохоталась вдруг зазвеневшим на весь лес хохотом: – поздравьте его, пожалуйста, Спиридон Иваныч, я наконец совсем обещала ему выйти за него замуж.
Учтивый конторщик поспешил снять шляпу:
– Имею честь искреннейше поздравить, Пинна Афанасьевна!..
– Принимаю, принимаю! продолжала она смеяться. – Ну, вот и доехали!.. Капитан!.. Иван Николаич!..
Она затпрукала, осадила лошадку, обвела взглядом кругом.
Да, это было то самое место, где за час перед тем происходило её последнее объяснение с капитаном. Вот срубленный пень у самой воды, на котором сидел он, когда она увидела его. Вот и его, потерявшая всякую форму, старая тирольская шляпа, как спала тогда с его головы, так и лежит на траве… Но сам он… Его нет… Где…
– Капитан, Иван Николаич! с внезапным, еще смутным ужасом повторила она и раз, и два, и три…
Ответа не было…
Она выскочила, кинув возжи, из своей нетычанки, подбежала в воде.
Под её отстоявшеюся, прозрачною поверхностью шли от берега далее в глубь следы, еще ясно отпечатлевшихся в твердом глинистом грунте, мужских каблуков.
Девушка вскрикнула и опустилась в изнеможении на траву. «Зачем?» так и зазвенел в её ухе ответ капитана, когда она говорила ему просто, что «жить надо»…
Спиридон Иваныч растерянно подбежал в ней:
– Пинна Афанасьевна, что же это, Господи!..
Она схватилась обеими руками за голову и залилась слезами.