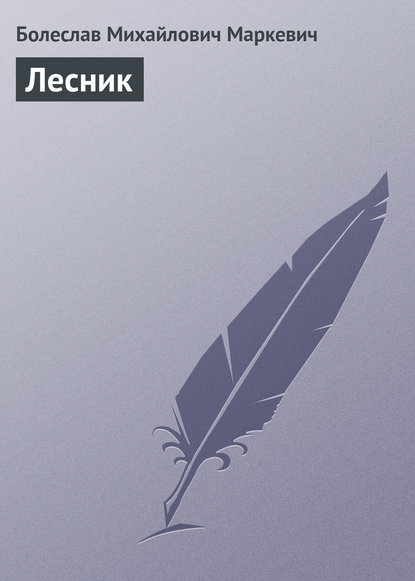По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лесник
Год написания книги
1880
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лесник
Болеслав Михайлович Маркевич
«После трехгодичного отсутствия, весною 1873 года, Валентин Алексеевич Коверзнев приехал в Черниговское имение свое, Темный Кут. Валентину Алексеевичу было в ту пору 36 лет; он был богат, здоров и независим, как птица в небе, – если только допустить, что человек вообще, и русский в особенности, способен быть независимым в этой мере……»
Болеслав Маркевич
Лесник
(Княгине Софии Михайловне Голицыной).
I
После трехгодичного отсутствия, весною 1873 года, Валентин Алексеевич Коверзнев приехал в Черниговское имение свое, Темный Кут.
Валентину Алексеевичу было в ту пору 36 лет; он был богат, здоров и независим, как птица в небе, – если только допустить, что человек вообще, и русский в особенности, способен быть независимым в этой мере…
Во всяком случае, условия жизни его и воспитания и его личные свойства весьма способствовали этой независимости, – составлявшей (он любил это говорить иногда,) «и задачу, и сущность его существования».
Он был внук по матери одного из известных Екатерининских любимцев, жалованного огромными поместьями на юге России; детство Коверзнева – его воспитывал безо всякого вмешательства и контроля со стороны его родных, прямой, жесткий и отважный характером англичанин mister Joshua Fox, – протекло частью за границей, в Швейцарии или Риме, частью в России, в Москве, в Екатеринославском имении, или в Темном Куте, в безбрежных лесах которого пропадал он на целые дни со своим наставником, страстным любителем охоты. На семнадцатом году он поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет.
Он кончил там курс, когда, почти одновременно, лишился отца своего и матери. Двадцати лет от роду он остался один, во главе состояния тысяч во сто доходу.
Эта пора его первой молодости совпала со временем небывалого до тех дней возбуждения русского общества. Как птицы на заре светлого дня, встрепенулись в те дни сердца, закипела мысль, загремели хоры молодых звонких, часто нестройных, почти всегда искренних в своем увлечении, голосов.
Коверзнев остался как бы в стороне от этого возбуждения. Строже говоря, оно затронуло его не с той стороны, с которой отзывалось на него большинство его однолетков… Недаром воспитан он был англичанином, – чистокровным англичанином-реалистом. Ему претило все, что отзывалось, или казалось ему «фразою», – «абстрактом и сентиментальною теориею», как выражался он. Он искренно был рад, что наследованные им пять или шесть тысяч душ крестьян перестают быть его крепостными, – он даже отвел им наделы с неожиданною для них щедростью, – но «гражданское воспитание» этого освобожденного народа, – о чем так много горячих толков и юношеского гама было в те времена, – нисколько не озабочивало его. «Им все дано, чтобы сделаться людьми; хотят – будут, а не хотят – их дело, с какою-то напускною, не русскою холодностью говорил воспитанник мистера Фокса. Во всем этом великом деле обновления России для него важнее всего было то, что сам он, Валентин Коверзнев, „переставал быть крепостным“, что прежние путы традиций, обычая, „условных обязанностей“, связывавшие до тех пор людей „его положения“, распадались теперь сами собой, силою всех этих „либеральных“ реформ, что никто теперь не станет принуждать его сделаться конно-гвардейцем и камер-юнкером, не „запряжет его в службу“. Это понятие службы Коверзнев ненавидел чисто английскою ненавистью: с ним в его мысли – вернее, в его инстинкте, – соединялось неизбежно понятие о ярме, о лжи и принижении человеческого достоинства, „необходимых последствиях подначалия“. „Чему бы там ни служить“, доказывал он, „как бы это ни называть и во имя чего бы это ни делать, а раз слуга – ты уже не человек, а раб“».
В силу таких своеобразных убеждений, Коверзнев, сдав свой последний экзамен, уехал за границу. На первый раз он пробыл там пять лет, – вернулся, опять уехал… Так прошли многие годы, так жил он и до сих пор. Постоянная перемена мест, новые лица, новые впечатления сделались потребностью его существования. Он то охотился на бизонов в американских саваннах, или ходил облавою на тигров в Индии, то пристращался к морю, плыл на своей яхте из Лондона в Египет на Мадеру. Изредка, всегда неожиданно, возвращался он в Россию, оставаясь как можно менее в Петербурге, где, он уже знал по опыту, ему, как богатому жениху, в свою очередь предстояла роль зверя, на которого неудержимою облавою. пойдет вся стая великосветских маменек и дочек…
II
Так же неожиданно приехал он и в Темный Кут. Софрон Артемьич Барабаш, управляющий его, родом из малороссийских казаков, но, как выражался он, «получивший свое образование в Москве», где он, действительно, выучившись читать, писать и считать, провел юность свою писцом в состоявшей, при матери Коверзнева, её московсвой «главной конторе», был смышленный малый, который каким-то верхним чутьем угадывал «ндрав» барина и «попадал в точку» его вкусов. Он встретил его, будто вчера с ним расстался, без аханья и суеты, ниже малейшего изъявления удивления или радости… Коверзнев был очень этим доволен и – так как он приехал поздно и устал от путешествия, в какой-то скверной таратайке, добытой им на станции ближайшей железной дороги, и в которой пришлось ему проехать 70 верст по отвратительной, размытой осенними дождями дороге – август был на исходе, – тотчас же улегся спать.
Ночью прибыл с чемоданами его камердинер, итальянец, говорящий на всевозможных языках и, первым делом, вынув из ящика ружья Коверзнева, собрал их, прочистил и уставил, со всем принадлежащим к ним охотничьим прибором, на столах, у стены, в комнате, соседней с спальнею.
Коверзнев, просыпавшийся всегда сам, и к которому никто никогда не смел входить без зова, поднялся на другой день чуть не с зарею, совершил свои омовение и туалет, прошел в следующую комнату и, почти машинально перебросив через плечо ружье и патронташ, направился через заросший сад в прилегавшую к нему сосновую рощу.
Роща эта была саженая – и не далее как лет сорок назад. Коверзнев помнил еще в детстве её невысокие, тонкие стволы, тесными и стройными рядами тянувшиеся в вышину. Все так же тонки и стройны стояли они и теперь в своей тесноте, лишь на пятисаженной высоте начиная раскидывать кругом темно-иглистые кисти своих суковатых ветвей. Кое-где, между соснами, такая же безупречно прямая, будто в догонку им тянулась молодая береза, – и еще робкие лучи выходящего осеннего солнца весело переливались по их красной и белой коре… Коверзнев остановился, залюбовавшись невольно; «не то пальмовый лес», проносилось в его голове, «не то те тысячи колонн Кордуанского собора, – те же пальмы, перенесенные арабами в архитектуру»…
Он прошел далее, прижмуриваясь и вздрагивая слегка плечами, под здоровым ощущением легкого утреннего холода, и изредка улыбаясь какою-то умильною улыбкою, под наплывом воспоминаний отрочества, которые на каждом шагу вызывали в нем эти места… За рощей начинались его леса, верст на сто в окружности. Там когда-то проводили они целые недели с Фоксом. Во время оно, он знал тут каждое урочище, каждую тропинку и каждый овраг…
«Тут ближе всего на Дерюгино», сказал себе Коверзнев, – там козы водились тогда. И он повернул направо.
В разреженном воздухе утра до него явственно донесся голос:
– Это должно понимать, потому как вы внове…
Коверзнев повернул голову.
В нескольких шагах от дороги, спиною к нему, в серой широкобортной шляпе и синих очках на носу, стоял Софрон Артемьич Барабаш, похлопывая себя по руке парою перчаток, которую он считал долгом неукоснительно держать при себе «для форсу», но едва-ли когда в жизни вздевал на пальцы…
– Потому как вы внове, повторил он еще отчетливее, как бы смакуя этот чисто русский оборот речи. (Говорить чисто московским говором, вклеивая при этом самым невозможным образом первые попадавшиеся ему на язык иностранные словечки, вычитываемые им в газетах, составляло величайшую претензию Софрона Артемьича.) – Тут-с, можно сказать, мужик коварный; сорвать с хозяина лишнее – это то-есть у него разлюбезнейшее дело. И завсегда его понимать надо. Потому сами знаете, для чего же ему лишнее, а нам убыток? Это ведь уж до тонкости дойдено: двадцать пять корней на сруб – за глаза ему!
Тот, которому читалась эта нотация, стоял перед управляющим, под деревом, с непокрытой головой, жмурясь от солнца, ярко освещавшего его плотную фигуру, щетинистые усы на выбритом, круглом лице, и темные глаза под такими же круглыми, резко очерченными бровями. Ему было, по-видимому, лет под сорок. Легкая проседь серебрилась в густых волосах, подчесанных по-военному, к височкам. Он был в смазных сапогах, грубой, посконной, но чистой рубахе и крестьянском неказистом кафтане, подпоясанном ремнем. Но на крестьянина он не похож; Коверзнев, еще на-ходу, заметил его мужественную выправку и внимательное, несколько печальное, выражение его глаз, словно прикованных к синим очкам управляющего. В опущенной руке держал он фуражку с военным околышем, – и не солдатскую, а с козырьком.
– Он на это говорит, послышался его голос в ответ наставлению Софрона Артемьича, – он говорит, что ему на столь и мост не хватит…
Господин Барабаш поднял очки на лоб, бы для того, чтобы удобнее выразить всем лицом своим презрительную улыбку:
– На «столь» и «мост»! повторил он: – это они здесь, по невежеству своему, заместо, как по граматике следовает сказать, потолок, значит, и накат. Так на это опять вы должны…
Но в эту минуту он, как бы нечаянно обернувшись, очутился – как бы нечаянно опять – на параллели медленно подвигавшегося по дороге барина (зоркий управляющий еще издали, давно заприметил его). Он опустил опять очки на нос и замолк, неторопливо сняв и тотчас же надев на голову шляпу.
– Накройтесь! покровительственно сказал он при этом своему собеседнику, чуть-чуть кивнув на Коверзнева: – они этого не любят! (сам он это очень любил).
Тот надел фуражку и, дав на каблуках полуоборота влево, очутился тоже на параллели Коверзнева, с опущенными, по-фрунтовому, вниз руками и недвижно обращенным на него взглядом.
Валентин Алексеич приподнял шляпу – и покосился слегка на незнакомое лице…
– В Дерюгино изволите? промолвил искательно Софрон Артемьевич, не трогаясь впрочем с места.
– Да… Коверзнев приостановился на миг. – Не знаете, не перевелись там еще козы?
Барабаш вышел к нему на дорогу:
– Верно сказать вам не могу-с, потому, как сам к охоте пристрастия не имеючи… А впрочем это сейчас узнать можно-с… Капитан! крикнул он не оборачиваясь.
Зовомый этой кличкою человек, двумя быстрыми, гимнастическими шагами, проскочил расстояние, отделявшее его от разговаривавших.
Софрон Артемьич повторил ему вопрос барина.
– Не видать-с. По Дерюгину теперь рубка пошла; зверь это робкий, пуглив… В Сотниково, должно полагать, коли и не совсем в казенную пущу, перебрались. За Крусановской межей я, действительно, большего козла…
Он вдруг оборвал, как бы испугавшись своих лишних противу того, что его спрашивали, слов.
– Убили? досказал Коверзнев.
«Как-же бы я осмелился»! прочел он в недоумелом взгляде, полученном им в ответ. – Нет-с, я… ходил – яму отыскивал…
– Еще внове здесь, а очень понятливы на счет границ, поощрительно сказал на это управляющий.
Валентин Алексеич еще раз приподнял шляпу и двинулся с места, приглашая взглядом Барабаша идти за ним.
– Кто это? спросил он, отойдя шагов сорок.
– А это у меня – с Покрова взял, – лесник по Дерюгину и Крусанову.
– Вы его, мне послышалось, «капитаном» называли?
Софрон Артемьич усмехнулся:
Болеслав Михайлович Маркевич
«После трехгодичного отсутствия, весною 1873 года, Валентин Алексеевич Коверзнев приехал в Черниговское имение свое, Темный Кут. Валентину Алексеевичу было в ту пору 36 лет; он был богат, здоров и независим, как птица в небе, – если только допустить, что человек вообще, и русский в особенности, способен быть независимым в этой мере……»
Болеслав Маркевич
Лесник
(Княгине Софии Михайловне Голицыной).
I
После трехгодичного отсутствия, весною 1873 года, Валентин Алексеевич Коверзнев приехал в Черниговское имение свое, Темный Кут.
Валентину Алексеевичу было в ту пору 36 лет; он был богат, здоров и независим, как птица в небе, – если только допустить, что человек вообще, и русский в особенности, способен быть независимым в этой мере…
Во всяком случае, условия жизни его и воспитания и его личные свойства весьма способствовали этой независимости, – составлявшей (он любил это говорить иногда,) «и задачу, и сущность его существования».
Он был внук по матери одного из известных Екатерининских любимцев, жалованного огромными поместьями на юге России; детство Коверзнева – его воспитывал безо всякого вмешательства и контроля со стороны его родных, прямой, жесткий и отважный характером англичанин mister Joshua Fox, – протекло частью за границей, в Швейцарии или Риме, частью в России, в Москве, в Екатеринославском имении, или в Темном Куте, в безбрежных лесах которого пропадал он на целые дни со своим наставником, страстным любителем охоты. На семнадцатом году он поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет.
Он кончил там курс, когда, почти одновременно, лишился отца своего и матери. Двадцати лет от роду он остался один, во главе состояния тысяч во сто доходу.
Эта пора его первой молодости совпала со временем небывалого до тех дней возбуждения русского общества. Как птицы на заре светлого дня, встрепенулись в те дни сердца, закипела мысль, загремели хоры молодых звонких, часто нестройных, почти всегда искренних в своем увлечении, голосов.
Коверзнев остался как бы в стороне от этого возбуждения. Строже говоря, оно затронуло его не с той стороны, с которой отзывалось на него большинство его однолетков… Недаром воспитан он был англичанином, – чистокровным англичанином-реалистом. Ему претило все, что отзывалось, или казалось ему «фразою», – «абстрактом и сентиментальною теориею», как выражался он. Он искренно был рад, что наследованные им пять или шесть тысяч душ крестьян перестают быть его крепостными, – он даже отвел им наделы с неожиданною для них щедростью, – но «гражданское воспитание» этого освобожденного народа, – о чем так много горячих толков и юношеского гама было в те времена, – нисколько не озабочивало его. «Им все дано, чтобы сделаться людьми; хотят – будут, а не хотят – их дело, с какою-то напускною, не русскою холодностью говорил воспитанник мистера Фокса. Во всем этом великом деле обновления России для него важнее всего было то, что сам он, Валентин Коверзнев, „переставал быть крепостным“, что прежние путы традиций, обычая, „условных обязанностей“, связывавшие до тех пор людей „его положения“, распадались теперь сами собой, силою всех этих „либеральных“ реформ, что никто теперь не станет принуждать его сделаться конно-гвардейцем и камер-юнкером, не „запряжет его в службу“. Это понятие службы Коверзнев ненавидел чисто английскою ненавистью: с ним в его мысли – вернее, в его инстинкте, – соединялось неизбежно понятие о ярме, о лжи и принижении человеческого достоинства, „необходимых последствиях подначалия“. „Чему бы там ни служить“, доказывал он, „как бы это ни называть и во имя чего бы это ни делать, а раз слуга – ты уже не человек, а раб“».
В силу таких своеобразных убеждений, Коверзнев, сдав свой последний экзамен, уехал за границу. На первый раз он пробыл там пять лет, – вернулся, опять уехал… Так прошли многие годы, так жил он и до сих пор. Постоянная перемена мест, новые лица, новые впечатления сделались потребностью его существования. Он то охотился на бизонов в американских саваннах, или ходил облавою на тигров в Индии, то пристращался к морю, плыл на своей яхте из Лондона в Египет на Мадеру. Изредка, всегда неожиданно, возвращался он в Россию, оставаясь как можно менее в Петербурге, где, он уже знал по опыту, ему, как богатому жениху, в свою очередь предстояла роль зверя, на которого неудержимою облавою. пойдет вся стая великосветских маменек и дочек…
II
Так же неожиданно приехал он и в Темный Кут. Софрон Артемьич Барабаш, управляющий его, родом из малороссийских казаков, но, как выражался он, «получивший свое образование в Москве», где он, действительно, выучившись читать, писать и считать, провел юность свою писцом в состоявшей, при матери Коверзнева, её московсвой «главной конторе», был смышленный малый, который каким-то верхним чутьем угадывал «ндрав» барина и «попадал в точку» его вкусов. Он встретил его, будто вчера с ним расстался, без аханья и суеты, ниже малейшего изъявления удивления или радости… Коверзнев был очень этим доволен и – так как он приехал поздно и устал от путешествия, в какой-то скверной таратайке, добытой им на станции ближайшей железной дороги, и в которой пришлось ему проехать 70 верст по отвратительной, размытой осенними дождями дороге – август был на исходе, – тотчас же улегся спать.
Ночью прибыл с чемоданами его камердинер, итальянец, говорящий на всевозможных языках и, первым делом, вынув из ящика ружья Коверзнева, собрал их, прочистил и уставил, со всем принадлежащим к ним охотничьим прибором, на столах, у стены, в комнате, соседней с спальнею.
Коверзнев, просыпавшийся всегда сам, и к которому никто никогда не смел входить без зова, поднялся на другой день чуть не с зарею, совершил свои омовение и туалет, прошел в следующую комнату и, почти машинально перебросив через плечо ружье и патронташ, направился через заросший сад в прилегавшую к нему сосновую рощу.
Роща эта была саженая – и не далее как лет сорок назад. Коверзнев помнил еще в детстве её невысокие, тонкие стволы, тесными и стройными рядами тянувшиеся в вышину. Все так же тонки и стройны стояли они и теперь в своей тесноте, лишь на пятисаженной высоте начиная раскидывать кругом темно-иглистые кисти своих суковатых ветвей. Кое-где, между соснами, такая же безупречно прямая, будто в догонку им тянулась молодая береза, – и еще робкие лучи выходящего осеннего солнца весело переливались по их красной и белой коре… Коверзнев остановился, залюбовавшись невольно; «не то пальмовый лес», проносилось в его голове, «не то те тысячи колонн Кордуанского собора, – те же пальмы, перенесенные арабами в архитектуру»…
Он прошел далее, прижмуриваясь и вздрагивая слегка плечами, под здоровым ощущением легкого утреннего холода, и изредка улыбаясь какою-то умильною улыбкою, под наплывом воспоминаний отрочества, которые на каждом шагу вызывали в нем эти места… За рощей начинались его леса, верст на сто в окружности. Там когда-то проводили они целые недели с Фоксом. Во время оно, он знал тут каждое урочище, каждую тропинку и каждый овраг…
«Тут ближе всего на Дерюгино», сказал себе Коверзнев, – там козы водились тогда. И он повернул направо.
В разреженном воздухе утра до него явственно донесся голос:
– Это должно понимать, потому как вы внове…
Коверзнев повернул голову.
В нескольких шагах от дороги, спиною к нему, в серой широкобортной шляпе и синих очках на носу, стоял Софрон Артемьич Барабаш, похлопывая себя по руке парою перчаток, которую он считал долгом неукоснительно держать при себе «для форсу», но едва-ли когда в жизни вздевал на пальцы…
– Потому как вы внове, повторил он еще отчетливее, как бы смакуя этот чисто русский оборот речи. (Говорить чисто московским говором, вклеивая при этом самым невозможным образом первые попадавшиеся ему на язык иностранные словечки, вычитываемые им в газетах, составляло величайшую претензию Софрона Артемьича.) – Тут-с, можно сказать, мужик коварный; сорвать с хозяина лишнее – это то-есть у него разлюбезнейшее дело. И завсегда его понимать надо. Потому сами знаете, для чего же ему лишнее, а нам убыток? Это ведь уж до тонкости дойдено: двадцать пять корней на сруб – за глаза ему!
Тот, которому читалась эта нотация, стоял перед управляющим, под деревом, с непокрытой головой, жмурясь от солнца, ярко освещавшего его плотную фигуру, щетинистые усы на выбритом, круглом лице, и темные глаза под такими же круглыми, резко очерченными бровями. Ему было, по-видимому, лет под сорок. Легкая проседь серебрилась в густых волосах, подчесанных по-военному, к височкам. Он был в смазных сапогах, грубой, посконной, но чистой рубахе и крестьянском неказистом кафтане, подпоясанном ремнем. Но на крестьянина он не похож; Коверзнев, еще на-ходу, заметил его мужественную выправку и внимательное, несколько печальное, выражение его глаз, словно прикованных к синим очкам управляющего. В опущенной руке держал он фуражку с военным околышем, – и не солдатскую, а с козырьком.
– Он на это говорит, послышался его голос в ответ наставлению Софрона Артемьича, – он говорит, что ему на столь и мост не хватит…
Господин Барабаш поднял очки на лоб, бы для того, чтобы удобнее выразить всем лицом своим презрительную улыбку:
– На «столь» и «мост»! повторил он: – это они здесь, по невежеству своему, заместо, как по граматике следовает сказать, потолок, значит, и накат. Так на это опять вы должны…
Но в эту минуту он, как бы нечаянно обернувшись, очутился – как бы нечаянно опять – на параллели медленно подвигавшегося по дороге барина (зоркий управляющий еще издали, давно заприметил его). Он опустил опять очки на нос и замолк, неторопливо сняв и тотчас же надев на голову шляпу.
– Накройтесь! покровительственно сказал он при этом своему собеседнику, чуть-чуть кивнув на Коверзнева: – они этого не любят! (сам он это очень любил).
Тот надел фуражку и, дав на каблуках полуоборота влево, очутился тоже на параллели Коверзнева, с опущенными, по-фрунтовому, вниз руками и недвижно обращенным на него взглядом.
Валентин Алексеич приподнял шляпу – и покосился слегка на незнакомое лице…
– В Дерюгино изволите? промолвил искательно Софрон Артемьевич, не трогаясь впрочем с места.
– Да… Коверзнев приостановился на миг. – Не знаете, не перевелись там еще козы?
Барабаш вышел к нему на дорогу:
– Верно сказать вам не могу-с, потому, как сам к охоте пристрастия не имеючи… А впрочем это сейчас узнать можно-с… Капитан! крикнул он не оборачиваясь.
Зовомый этой кличкою человек, двумя быстрыми, гимнастическими шагами, проскочил расстояние, отделявшее его от разговаривавших.
Софрон Артемьич повторил ему вопрос барина.
– Не видать-с. По Дерюгину теперь рубка пошла; зверь это робкий, пуглив… В Сотниково, должно полагать, коли и не совсем в казенную пущу, перебрались. За Крусановской межей я, действительно, большего козла…
Он вдруг оборвал, как бы испугавшись своих лишних противу того, что его спрашивали, слов.
– Убили? досказал Коверзнев.
«Как-же бы я осмелился»! прочел он в недоумелом взгляде, полученном им в ответ. – Нет-с, я… ходил – яму отыскивал…
– Еще внове здесь, а очень понятливы на счет границ, поощрительно сказал на это управляющий.
Валентин Алексеич еще раз приподнял шляпу и двинулся с места, приглашая взглядом Барабаша идти за ним.
– Кто это? спросил он, отойдя шагов сорок.
– А это у меня – с Покрова взял, – лесник по Дерюгину и Крусанову.
– Вы его, мне послышалось, «капитаном» называли?
Софрон Артемьич усмехнулся: