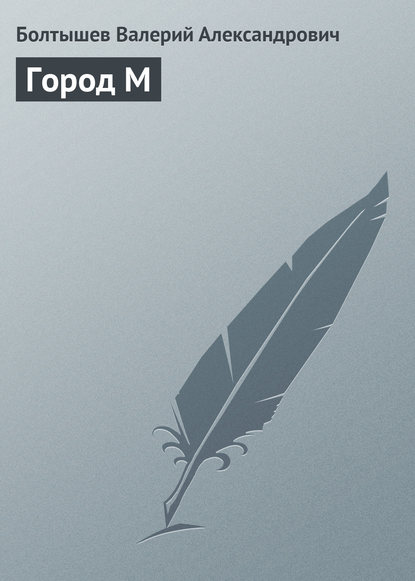По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Город М
Серия
Год написания книги
2007
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Гну! Гребешь и гребешь. А уж как оно там – это уж как выйдет. Дышит – спаситель, не дышит – спасатель. Службу нес, должность справлял, а толку шиш…
На этих словах Анна понял, что Мухина волнует нечто этим словам несоответствующее, поскольку краевед затряс половинкой бороды. Но Петр, который стоял, как дверь, прикрывая клеть от ненужных глаз, сказал "давай" и впустил круглого человечка с китайским термосом, из которого шел пар. И стало ясно, что это и есть Кудеяр, ибо человечек был лысый еврей, как обещал Клавдий, а краевед, перестав трястись, сообщил, что Лев Иосифович добрейший человек, переводчик, да чего переводить, голубчик, чего, и потому – артельный атаман.
Тем не менее Анна сразу догадался, что Кудеяр еще и парикмахер, потому что, обращаясь ко всем без исключения, он тут же и заявил, что разбойничья артель – это идея, которая себя изжила, и он уже предрек Прусису, что еще придется переквалифицироваться в каких-нибудь пришельцев, на что, между прочим, Прусис – ну вы же знаете Прусиса – ответил, что из Израиля выехали все евреи, ай-яй-яй, и Израиль давно пустой и без никого. При этом, не переставая грустно улыбаться, он развел мыло в крышке от термоса и выбрил Мухину правую щеку еще раньше, чем тот закончил стрижку на другой стороне.
Принципиально ничего не предугадывая, Анна пробыл в неведении очень короткое время. Минуты полторы спустя он знал, что его тоже будут брить.
– Я спрошу у вас очень простую вещь,– пообещал Лев Иосифович, взявши его за подбородок.– Что делают с человеком, который не умеет плавать? Нет, не надо ничего говорить, я уверен, что вы знаете. Да, его бросают в воду. И мы с вами уже не узнаем этого человека! Этот человек уже плывет! Вы мне скажете так: он научился. Хорошо. Тогда сделайте вот что: бросьте его не в воду, а с четвертого этажа. Вы скажете, он научится летать? Нет, я знаю, вы так не скажете. И никто так не скажет. Так не скажет вам даже Прусис, хотя вы знаете Прусиса…
– Это, голубчик, наш…– влез краевед.
Но узнать, кто такой Прусис, было не суждено, поскольку в этот миг хлопнула дверь, затем хлопнуло что-то еще, и Анна, чью физиономию твердо, как палитру, держал перед собой Лев Иосифович, был вынужден довольствоваться возней за стенкой, пока Петр не распорядился завязать гаду и гляделки тоже, а Мухин пояснил, что пришел Илья Израйлевич.
– А теперь я вам скажу, что все это означает,– продолжил Кудеяр, переждав шум.– Это означает три простые вещи, которые понял бы даже Прусис, если б он не был так все время занят. Это означает, что человека нужно пугать, и тогда он делает прогресс. Но человек хочет пугаться правильно! Иначе он разбивается вдребезги ко всем чертям и не делает вам никакого прогресса. И еще он хочет иметь хоть маленькое, но все же удовольствие. И если вы бросите его в воду еще раз, он уже не станет там учиться плавать, нет. Он вылезет и плюнет вам в лицо, поимейте в виду. Он устал и хочет себе новизны. Вот и все. И я сказал Прусису: "Прусис, ждите приказа, нас переделают в пришельцев". И теперь вы имеете понятие, почему я сказал именно так.
Было похоже, что монолог срепетирован по часам, ибо с последним словом Кудеяр сделал последний жест, красиво сдернув салфетку.
Но подумать так Анна не успел. Взглянув в зеркало, он вздрогнул и обернулся, потому что за спиной сидел маленький танкист – в комбинезоне и шлеме – с маленьким красным личиком. И если бы на этом личике не было странноватой улыбки, какая бывает у человека, который пробует пройтись босиком, Анна ни за что не заподозрил бы в танкисте старика Мухина.
Тем не менее танкистом был краевед. Как сказано, он улыбался и протягивал Анне точно такой же шлем.
Глава пятая
Возвращаясь к теме сна, можно сказать, что сон – это хорошо.
Известно, например, что Менделееву приснилась таблица Менделеева, а Павлову являлись по ночам разрезанные собаки Павлова, а Чернышевский спал и видел свою Веру Павловну, которая, в свою очередь, тоже спала и видела такие сны, что их потом оставалось только пронумеровать и преспокойно звать Русь к топору.
Что же из всего этого касается Егорушки, то Веру Павловну он помнил хорошо и про себя считал вздорной бабой, потому что от нее, особенно после второго сна, сильно воняло под мышками.
Но самое плохое было спать в четырнадцать часов. Егорушка не любил спать в четырнадцать часов. В четырнадцать часов происходил какой-то сбой, и Егорушке, вопреки государственным интересам, действительно снился сон, причем абсолютно ненужный и нелепый, который начинался траурной музыкой, и Егорушка высовывался в окошко, чтоб узнать, кого это хоронят, но открывалась дверь и оказывалось, что хоронят его, Егорушку, потому что в дверь входили несколько мужчин с гробом на плечах и складывали его в гроб, а потом несли, несмотря на Егорушкины объяснения, что он живой и даже вечно живой, и фуки вы фуки.
Куда его волокут – на погост или на пенсию – Егорушка не знал, потому что оба обряда в домоуправлении праздновались одинаково, но из суеверных соображений старался проснуться раньше, чем это выяснится. И хитрость пока удавалась, хотя Егорушку, судя по всему, тоже пробовали надуть, и мужики с полотенцами теперь приносили гроб заранее, а начинали сниться без предисловий и прямо уже в комнате.
Короче говоря, спать в четырнадцать часов было опасно. Но необходимо, поскольку еще опасней было ничего не знать про взрыв, который должен состояться вот-вот (Егорушка это чуял – как чует нестрашный какой-нибудь зверь, вроде землеройки – то есть очень чутко и всем тельцем сразу), и откладывать решение такой насущности не представлялось возможным даже до конца балконного махания.
По этой причине, проорав вдруг "да ввафтвует Вевикий Фтовник, ув-ва!" и дав кой-какие поручения телогрейцам (в частности – объяснив, когда и в каком случае его будить), Егорушка отправился спать, но не домой, что было бы взрывоопасно, а в мастерскую, через потайной ход, замаскированный тут же, на балкончике, под пожарный щит с баграми и прочим красным железом. Все последующее напоминало тревогу на подводной лодке: по коридорам он бежал бегом, а задраив за собой дверь, влез на стол, лег и поспешно затих, готовый к подвсплытию под перископ.
Лучше всего было бы вынырнуть на Голой горке: туда после парада и стриптиза смещалось народное гуляние вместе с домоуправцами. Однако вышло никак, не плохо, не хорошо, и пооглядевшись во сне, Егорушка понял, что находится опять где-то очень высоко, а именно – сидит на самом жестяном и горячем краешке крыши, откуда просматривалась вся площадь Застрельщиков и откуда можно черт знает как ужасно сгрохотать, особенно если сидеть так, как сидел он: свесив ноги вниз и ладясь харкнуть кому из проходящих на маковку.
Осторожно егозя задом, он отполз подальше, к шиферу, и огляделся еще раз.
Внизу было малолюдно. По площади, меж раскупоренных танков, как тараканы по кухонному столу, шлялись танкисты, напившиеся тормозной жидкости. Они имели приказ оставаться в городе до двадцати двух – на случай беспорядков и вообще прохожих,– и редкий эмец, сдуру залетев сюда, норовил свое: шмыгнуть, в первый же скок давая понять, что человек есть не кто иной, как кузнечик своего счастья. А солнце шпарило свое, низводя все до насекомой возни. А посередке – между солнцем и площадью – сидел на крыше Егорушка с несколькими воробьями. И смотреть на это было не то чтобы неинтересно, но как-то печально.
– Кыф,– сказал Егорушка воробьям.
Печаль заключалась в том, что углядеть заговорщиков с такой высоты было, конечно, нельзя. Зато очень легко было представить, как в это самое время два усатика, шепотом матюкая друг дружку, топят в сливном бачке мину натяжного, скажем, действия. (Хотя последние сутки смывать поручалось дневальному, по команде, тогда как сам Егорушка пережидал плеск, уткнувшись в плинтус, такое решение можно было считать разве что половинчатым.) [9 - Вдобавок он старался не пить и совсем-совсем не ел. Но и это решение было половинчатым. И даже, почему-то, меньше.] Между тем воробьи, которые жили тут – то есть скакали, чирикали и гадили вокруг Егорушки без всякой опаски,– не могли не раздражать своим иудейски-беспечальным видом, отчего Егорушка, забыв, что он всего лишь спит, и опять сказав «кыф», бросил в них обломком шифера, каковым пустяковым поступком едва не изменил течение судьбы.
Оставив воробьев правей, обломок тюкнулся в жесть, подскочил и упал у слухового окна. То, что глянуло оттуда на Егорушку, было автоматным стволом. Который Егорушка тут же и узнал: как в давешнем сне про лесную жизнь, над стволом торчал глаз, со всех сторон заросший бородой.
Что должно быть дальше, Егорушка знал и помнил до тонкостей. И если можно не удивляться выстрелу в лоб, можно сказать, что Егорушка так и поступил, качнувшись – сперва от страха, потом от удара, а потом – обломившись назад, за жестяной краешек, в пустоту. Четыре ужасных секунды спустя Егорушку сотряс еще один удар. Он был много страшней первого, и потому Егорушка проснулся, лежа на полу меж ведер с белилами. Но учитывая, как громко это произошло, он понял, что там, во сне, он хрястнулся в бетон, на подъездный козырек.
Под шкафом на корточках сидел мышонок и ел кусок мела, держа его как арбуз.
– А вот не вевтись,-сказал Егорушка себе, лежащему средь малярного хлама.– Вевтифься, вевтифься… Потому вот и упав. Дувачок.
Мышонок перестал есть. Он тоже был дурачок и напудрил себе усы.
– Кыф! – в третий раз сказал Стуков.– Кыф, павазит!
И мышонок, обронив мел, стрельнул[10 - То есть в данном случае убежал. По-настоящему стреляли во сне.] в темень, а Егорушка, сказав «о-хо-хофеньки-хо-хо», сызнова влез на стол, где сперва наметил под себя самую середину.
Времени было мало, но, к счастью для спешащего Егорушки, на площади за это малое время не случилось ничего важного, если не считать, что сам он успел каким-то хитрым манером сползти с козырька. Шум, который он при этом устроил, был не значительней предыдущего, которого, кстати, тоже не заметил никто – и Егорушка, совершенно прозрачно постояв на площадном берегу, двинулся просто поперек площади, не привлекая ничьего внимания, причем многие из задних пролазили сквозь. Это было так неприятно, что он тоже не сразу обратил внимание на четырех танкистов, из которых один, с большим мешком на плече, тоже пропихнулся сквозь Егорушку и обругал кого-то коровьим стукалом.
– А? – спросил Стуков. Он подумал, что его позвали. Но потом его смутил мешок.
Решив, что в мешке – а точнее, в вещмешке – безусловно, динамит, он, конечно, не мог знать, что там навоз, поскольку Петр разложил его сначала в полиэтиленовые пакеты и каждый завязал отдельной веревкой. К тому же, он не знал Петра, а если б знал, то не смог бы узнать, потому что молодецки выбритый Петр в шлеме был похож на нелюбимого Егорушкой маршала Конева, что укрепило подозрения насчет динамита. Вполне возможно, что из-за этих переживаний он не узнал и Никодима Петровича, которого знал более чем хорошо. Хотя Кудеяр для пущего объема сбрил Никодиму Петровичу не только усы, но и всю прическу целиком, под шлемом это было неважно, и безусый Никодим Петрович своей невыразительностью мало чем отличался от Никодима Петровича усатого. Анна, который шел правей, съехидничал для собственного развлечения, что это лицо чертами лица напоминает живот.
Сам он, когда-то сформулировавший, что человек есть животное, которое может наблюдать себя со стороны, в данный момент, строго говоря, человеком не был. Но мог сойти за старшего, например, лейтенанта. И Егорушка, скользнув по его ясной, как хромовый сапог, физиономии, перебежал дальше, к Мухину, который, конечно, портил фланг болтливостью, зато был незнаком уже совершенно. Правда, Егорушка жил слишком давно, и всякий новый человек казался неновым. Поэтому сутолочный Мухин был принят за краснопресненского водопроводчика Ваську Пупыря, который в девятьсот пятом году продавал на баррикадах взрывающийся водопроводный кран. Кроме того, он все время дергал Анну за рукав, норовя отстать и нашептать секрет. И Егорушка, пользуясь прозрачностью, с ходу воткнулся в самую мякоть мухинского беспокойства.
– А скажите, голубчик, а что-нибудь такое, знаете, особенное – нет, вы не видели, нет? Ну, я имею в виду – ну, например, руки. Руки, а на них, скажем… шрамы, а? Понимаете?
– Какие шрамы?
– Ну, хоть небольшие. Хоть чуть-чуть, так, знаете, шрамчики. Слегка. Не видели?
– Не видел,– брякнул Анна.
– Да? Жаль,– кивнул Мухин.– Это странно. Впрочем, я тоже не видел. Просто не обратил внимания. Жаль. Но ведь что-то должно быть? Или нет? Как вы считаете? Ведь должно?
– Должно,– охотно согласился Анна. Он ничего не понимал. Он продолжал ничего не понимать, решив, что после четырех лет жизни по ночам, слишком резко принялся жить среди дураков. И это либо естественно и пройдет, либо – заразно, но все равно естественно.
Кое-что, конечно, давалось легко. Скажем, танкистская форма, которая действовала на любопытных, как пар на паровоз, а также ее происхождение, про которое Мухин, сложив бритые губы скобочкой, пробубнил: "Так и живем, голубчик, так и живем… Иной раз маленько кого и по кумполу, да".
Ясен был и психиатр, притороченный к стулу двумя уздечками и как бы играющий в жмурки сам с собой, покуда Петр не приказал заткнуть и слух – ишь, стрижет, гад,– и на психиатра напялили лисий малахай, и он стал похож на пленного эвенка.
Анну подкосил навоз, тот самый навоз, который Петр рачительно расфасовал по кулькам, сложил в мешок и теперь пер на себе. Навоз не лез ни в какие ворота. Поразмышляв о его роли в конспирации, Анна сделал несколько слабоумных выводов, махнул рукой и с той поры отключился вовсе, даже не пробуя осознать, куда идет, печатая почти строевой шаг. Арсений же Петрович, наоборот, был настойчив и невнятен. Он волновался и надоел.
– Да, послушайте, Андрюша, вот! Вот что: день рождения, да! Вы помните мой день рождения? Это не тот, что с пирогом, когда мы… Ну, в общем, не тот, а до того, покойница Софья Гавриловна еще в голубом платье – помните?
– В голубом?
– Ну да! Танго танцевали. Ну? В лото играли. Вспомнили? На орехи.
"Фуки вы фуки",– подумал Егорушка.
– Ну и что? – спросил Анна.
– А после иконы смотрели, коллекцию, ее потом кто-то украл. А Салазкин, помните – Салазкин, медик – стал спорить, что Христос прибит неправильно, не туда, помните? Ну, дескать, так не увисишь, как-то там из анатомии. А вы его за это архимедиком назвали. Ну?