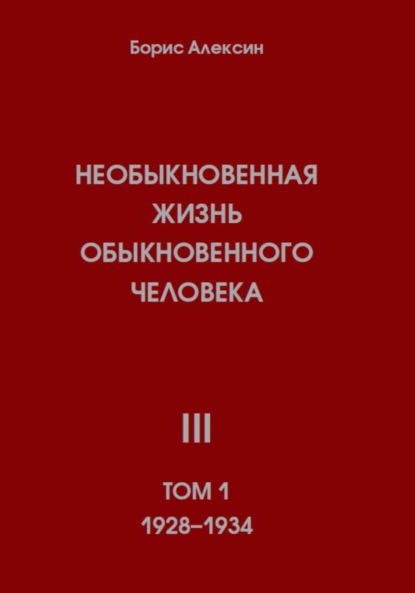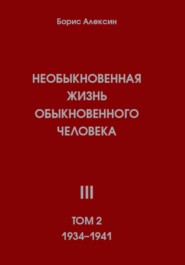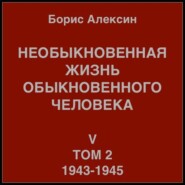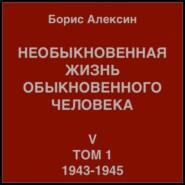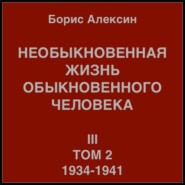По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Необыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 3. Том 1
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А что же ещё? Всё!
Когда молодожёны вышли из ЗАГСа, они дружно рассмеялись.
– А я-то думала!.. – проговорила Катя.
Откровенно говоря, и Борис был разочарован простотой такого важного для них события. На самом деле, тогда регистрация брака происходила так незамысловато и буднично потому, что очень многие граждане не придавали этому акту почти никакого значения. Некоторые люди годами жили в фактическом браке и даже не думали ни о какой регистрации, а другие считали брак действительным только после венчания в церкви.
В тот же день состоялось и празднование. Конечно, это была совсем не та свадьба, какую справляли в своё время зажиточные крестьяне, интеллигенты или купцы, и о которой мы теперь имеем представление по рассказам Чехова, Лескова или Толстого. Но это была и не такая свадьба, какие мы часто видим теперь, когда молодые со свидетелями и кучей друзей торжественно едут на украшенных автомашинах в какой-нибудь ресторан или домой, где столы накрываются на сорок–пятьдесят гостей и где праздник длится не одни сутки.
Не было у них и комсомольской свадьбы, которую описывают советские авторы: в клубе, с речами, оркестром и подарками от организаций и родственников. Нет, времена тогда были не те, да и семьи жениха и невесты не имели достаточно средств, чтобы справить пышную свадьбу.
После возвращения Бориса и Кати из ЗАГСа был устроен обед, в котором главным организатором стала Акулина Григорьевна, приготовившая скромные, но очень вкусные блюда. Кое в чём ей помогла и мачеха Бориса. За столом, кроме семьи Пашкевичей и Алёшкиных, присутствовали несколько ближайших родственников. Не обошлось, конечно, и без выпивки, но ни жених, ни невеста к спиртному не притронулись.
Глава седьмая
Неделя заканчивалась. Борис выехал из своей старой квартиры, чем немного огорчил хозяйку: в проходную комнату найти квартиранта было непросто, Алёшкин обещал прожить год, а сам съезжал через месяц. Женщина, конечно, понимала, что жить в таких условиях, которые она могла предоставить семейному человеку, было неудобно, и поэтому, в общем-то, они расстались дружелюбно.
Забрав свои скромные пожитки, в том числе и медвежью шкуру, служившую ему матрацем в Шкотове и привезённую сюда в последнюю поездку, Борис явился на новую квартиру. Вручив ему ключ от комнаты, хозяйка познакомила его с соседями, они оказались симпатичными старичками, жившими, как он впоследствии узнал, неизвестно на какие средства. Муж в этой семье когда-то был чиновником в частном банке, дослужился до пенсии, но с приходом советской власти выплаты прекратилась, а банк был ликвидирован. Отдел социального обеспечения, обратиться в который его надоумил Томашевский, обещал ему выплачивать что-то по старости, но пока он ничего не получал, и старички проедали небольшие сбережения, сохранившиеся от прежней жизни. В России, именно на Дальнем Востоке, они жили уже чуть ли не полвека и никуда уезжать не хотели.
Их хозяйка, пани Ядвига, тоже была давней жительницей Владивостока. Ещё в прошлом столетии её свёкор построил этот дом, который они с мужем унаследовали. Муж хозяйки, мобилизованный каким-то белогвардейским правительством Приморья, погиб в бою. Она осталась одна, не имея никакой специальности. Доходы от сдачи внаём комнат были так малы, что на них существовать было нельзя. Предприимчивая женщина занялась разведением свиней. Этим делом, кстати сказать, начал заниматься ещё её покойный муж. Сейчас в хлевушках находилось штук десять свинок. Продажа их мясникам-китайцам приносила прибыль, хотя содержание животных и требовало немалого труда.
Разумеется, всё это Борис узнал не сразу. В тот день, когда он явился со своими вещами, его только познакомили с соседями и повторили условия найма. Весь разговор, как с пани Ядвигой, так и с её жильцами вёлся по-польски. Алёшкин старался отвечать односложно или как можно более кратко, когда же ему приходилось произнести более длинную фразу, он говорил её по-русски, ссылаясь на то, что за время долгой жизни среди русских почти позабыл польский язык.
Хозяйка, как обещала, поставила в комнату железную кровать – с довольно вычурными спинками, на очень тонких ножках и заметно узкую. Уместиться на ней вдвоём было совершенно невозможно. Борис привёз со своего склада несколько досок, сколотил из них щит и уложил его сверху. Площадь постели расширилась, получилось некоторое подобие двуспальной кровати. Застелил он её шкурой медведя и одеялом. В этом и заключались все его приготовления к приезду жены.
Наконец, наступил этот знаменательный день. Поезд из Шкотова приходил в 12 часов дня. Стоял ясный морозный день, было около пяти градусов мороза, выпавший несколько дней тому назад снежок хорошо покрыл улицы города, и извозчики перепрягли своих лошадей в маленькие изящные саночки. Вообще-то, по городу на санях ездили редко, и прокатиться в них было большим удовольствием.
Ещё утром Борис предупредил хозяйку о том, что сегодня приедет жена. По дороге на вокзал, выйдя на Китайскую улицу, он нанял извозчика, лошадь которого ему показалась особенно бойкой и ухоженной.
Оставив извозчика с санями на вокзальной площади и приказав ему дожидаться, Борис вышел через здание вокзала на перрон, чтобы встретить свою Катю, приезжавшую к нему теперь уже навсегда. Поезда пришлось ждать более получаса, и эти полчаса показались Борису целой вечностью. Но вот, наконец, показался пыхтящий паровоз, а за ним серо-зеленоватые вагоны дачного типа, которые теперь ходили по сучанской ветке. В окне одного из вагонов, медленно прокатившемся мимо Бориса, он заметил улыбающееся лицо Кати. Подбежав к этому вагону, он быстро забрался в него и, протискиваясь через толпу спешащих к выходу пассажиров, добрался до купе, в котором сидела, обложенная узлами, Катя. Он бросился к ней с поцелуями, но она, видимо, страшно смущаясь от любопытных взглядов, бросаемых пассажирами, торопила его:
– Ладно, ладно, Борька! Бери вон тот узел, там перина и подушки. А этот, с одеждой, и корзинку я сама понесу. Пойдём скорее, а то ещё в тупик увезут!
Взвалив на себя, хотя и лёгкий, но очень громоздкий узел, с трудом протискиваясь в проходе и дверях вагона, Борис облегчённо вздохнул, когда, наконец, очутился на перроне. Следом за ним вышла Катя. Через несколько минут, кое-как уместившись в крошечные узенькие извозчичьи санки, поставив корзинку в ноги и обложившись узлами, так что поверх этого добра были видны только их головы, они тронулись в путь.
Лошадка извозчика бежала резво, санки по обледеневшей мостовой катились, кренясь то в одну, то в другую сторону, грозя вытряхнуть своих пассажиров. Катя впервые в жизни ехала на таких санках на извозчике и, уцепившись обеими руками за свои узлы, видимо, основательно побаивалась, как бы не вылететь вместе с ними на землю. Поэтому, преодолев стеснение и робость, она прижалась к Борису, а тот, держась левой рукой за металлическую спинку саней, правой, обхватив любимую, всё крепче прижимал её к себе.
От быстрой езды, встречного ветра и морозца оба они раскраснелись и, войдя на крыльцо, поразили хозяйку, увидевшую их в окно, своей молодостью, свежестью, юностью, так и брызжущим счастьем.
Пани Ядвига не выдержала и, обняв Катю, поцеловала её:
– Сердечне витам пан! Бардцо пшиемно знать сем паней, проше, проше! – говорила она, силясь помочь растерявшейся Кате внести вещи.
Борис, протиснувшись вперёд, кое-как составил фразу:
– Моя малженка по-польску не разуме, она россиянка.
– Ниц, ниц, розуме! – продолжала говорить Ядвига, пока Борис открывал дверь своей комнаты.
Когда Борис и Катя остались одни, он схватил её, приподнял с пола и стал целовать в губы, глаза, щёки, лоб, волосы и во что придётся. Она, смеясь, отбивалась от него и говорила:
– Да подожди ты, ненормальный! Вот дурак, дай хоть раздеться-то! Давай устраиваться, а потом, я есть хочу, где мы обедать будем?
От последнего вопроса Борис растерялся, о еде он не подумал вообще и сейчас невольно расстроился: «Ведь у меня ничего нет, придётся сейчас ехать в центр, или на базар, покупать продукты… А может быть, в ресторан? Но в ресторан Катя, наверно, не захочет. Ещё в прошлом году она сказала, что никогда по ресторанам ходить не будет. Что же делать?»
Обо всём этом он думал, помогая Кате развязывать её узлы, раскладывать в комод привезённое ею с собой бельё, развешивать на гвоздях, вбитых в одну из стен комнаты, пальто и платья и раскладывать на кровати широкую перину, которая, даже после сделанного Борисом усовершенствования, свешивалась чуть ли не до пола.
Наконец, с разборкой Катиных узлов и устройством постели было покончено. Молодые хозяева уселись около стола, и Катя получила возможность рассмотреть своё собственное жилище. Конечно, назвать его даже приличным, с современной точки зрения, да, пожалуй, и вообще, было бы нельзя: убогая, грязноватая, тёмная комната (окно-то выходило в узкий двор), обставленная донельзя бедной обстановкой. Но ведь это их жильё, их собственная квартира! Они могли, заперевшись на крючок или на замок, никого к себе не пускать и остаться одним. Они вдвоём – в целом мире! И это наполняло их сердца таким счастьем, что убогость комнаты не могла иметь значение.
И вот, когда они с сияющими глазами сидели около «своего» стола, на «своих» стульях (хозяйка заменила табуретку венским стулом), переглядываясь, готовые каждую секунду разразиться беспричинным радостным смехом, в дверь их комнаты кто-то тихонько постучал.
Катя наскоро, пригладив растрепавшиеся волосы, оглядев своё платье, вопросительно взглянула на Бориса, а тот важно, с достоинством произнёс:
– Войдите.
Дверь приоткрылась и в неё не прошёл, а как-то очень тихо и ловко, согнувшись в вежливом полупоклоне, проскользнул невысокий китаец, прижимавший к груди меховую шапку. Одет он был так, как обычно одеваются китайские лавочники: в длинный шёлковый ватный халат чёрного цвета, с застёжками на боку, из-под которого выглядывала чистая шёлковая куртка и шаровары. Растительности на лице у него не было, а сзади по халату змеилась длинная и тонкая коса.
Борис и Катя недоумённо переглянулись. Потом, однако, чувство вежливости и гостеприимства, присущее русским людям, победило их изумление. Катя пересела на кровать, а Борис пододвинул к пришедшему китайцу её стул и предложил сесть, тот от приглашения отказался. Он согнулся в поклоне ещё ниже, затем выпрямился и произнёс тихим, еле слышным голосом:
– Здласте! Моя Ли Фу Чан. Моя магазина тута лядом во дволе стоит. Ваша капитана тепель тут живи. Тебе чиво-чиво нада, моя магазина покупай. Моя магазина шибко шанго есть. Его, – он указал пальцем на Катю, – мадама сама ходи, выбилай, чиво есть, чего нету – скажи, моя потом плинеси. Сама ничего неси не нада, всё бойка плинеси. Деньга плати не нада, тибе, капитана, запиши, моя книжка запиши: потом, когда хочу, деньга есть, отдавай. Холосо!
Борис и Катя переглянулись: они знали ещё по Шкотову, что китайские торговцы охотно дают товары в долг, чтобы привлечь к себе покупателей, но с тем, чтобы торговец вот так ловил покупателей на дому, они встретились впервые.
Борис поблагодарил за предложение и сказал, что они, вероятно, им воспользуются и, может быть, даже сегодня. На лице торговца появилась улыбка, он шагнул вперёд, достал из кармана тоненькую книжечку в светло-коричневой картонной обложке, положил её на стол и, указывая пальцем, сказал:
– Тебе чиво бели, эта книжка пиши, моя своя пиши. Моя магазина тебе, когда хочу ходи – утло, вечела, ночью, только на дволе маленькая двелка – стучи, моя отклывай. До свиданья, мадама, до свиданья, капитана.
После этих слов он также бесшумно, как и появился, выскользнул в дверь. А молодые хозяева несколько минут смотрели друг на друга, а затем расхохотались.
– Ну вот, я уже и мадама, а ты капитана! Здорово! Однако есть-то всё-таки хочется. Мама мне дала пирожков, но этого мало. Иди-ка, Борька, к этому Ли Фун Чану, посмотри, что у него взять можно, сообразим обед. Ехать куда-нибудь в большой магазин мне не хочется.
Не хотелось этого и Борису, он думал об одном – скорее бы остаться с Катей наедине, ведь завтра он с ней увидится только вечером, и так будет каждый день до следующего воскресенья. Надев шапку, он выскочил во двор.
Между прочим, ещё по дороге с вокзала, он узнал от Кати, что её мать, вернувшись из Хабаровска несколько дней тому назад, по мере возможностей, стала готовиться к свадьбе второй дочери. А возможности эти были очень ограничены: ни денег, ни каких-либо значительных запасов одежды у Пашкевичей не было. Акулине Григорьевне пришлось очень трудно. Только при помощи своих родственников и денег, заработанных Андреем, она сумела справить для невесты постель и самое необходимое нательное бельё, всё остальное у Кати оставалось старым. Но сама невеста и, тем более, жених о каком-либо приданом как-то даже и не помышляли. Может быть, потому, что оба они были ещё слишком молоды, а может быть, потому, что комсомольцы того времени ко всем этим старорежимным предрассудкам, «тряпкам» относились чуть ли не с презрением. Вероятно, поэтому молодые, поселяясь отдельной семьёй, даже и не вспомнили о посуде.
Когда Борис зашёл через чёрный ход в лавку Ли Фун Чана, то первое, что он увидел, это был сам хозяин её, сидевший около прилавка и, видимо, с наслаждением пивший из красивой фарфоровой пиалы горячий чай. Бориса словно что-то стукнуло: «Обедать? А как? Ну, пирожки мы так съедим, а если я принесу сейчас какой-нибудь еды, на чём и чем мы её есть будем? У нас ведь ни тарелок, ни вилок, ни чашек, да и вообще ничего из посуды нет», – подумал он.
Эти мысли заставили его обратиться к Ли Фун Чану не за продуктами, а именно за посудой. Тот сразу понял затруднение молодого, и, очевидно, совсем неопытного в хозяйственных делах «капитана». Он опять расплылся в улыбке, зашёл за прилавок, взял листочек бумаги, положил перед собой счёты (китайские, по размеру и по форме отличные от наших), обмакнул толстую кисточку в чашечку с тушью, взглянул на Бориса и быстро заговорил:
– Тебе чайника нада, мало-мало 4 чашки, талелка 6 – большой, маленький, ложка 6, ножика, вилка, ножика кухня, маленькая чайника, – одновременно с этим он писал на бумаге какие-то иероглифы. Затем торговец немного задумался и продолжил:
– Ещё клеёнка нада, полотенца 3 штука, – взглянув на покупателя вопросительно, Ли-Фун-Чан спросил, – А чего тебе кушай хочу?
– Нам хлеба свежего надо, чёрного и белого, какой-нибудь колбасы, сыру, масла, сахару, чаю, ну а завтра «мадама» сама придёт, чего надо купит.
– Тебе, капитана, ходи домой. Один часа бойка всё плинеси. Его счёт плинеси, тебе своя книжка запиши, деньга потом сама мадама отдавай.
Вернувшись в свою комнату, Катю Борис застал за тем, что на постеленной на столе газете она раскладывала мамины пирожки, холодные котлеты и кусок сала. В руках у неё был довольно большой нож. Около этой еды стояло два стакана, с налитым в них чаем, а на маленьком блюдечке лежало несколько кусочков сахара.