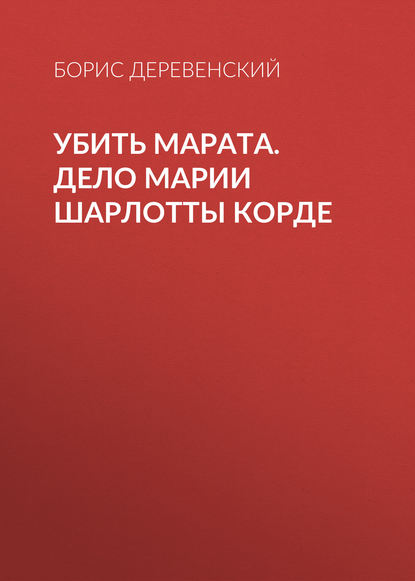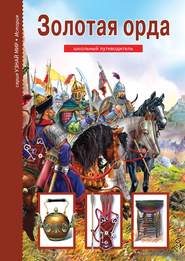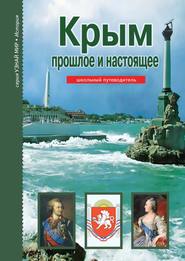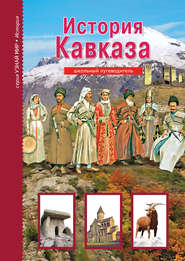По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Убить Марата. Дело Марии Шарлотты Корде
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«В своё время, – писалось в брошюре, – Бриссо сказал, что истинный патриот не может, не краснея от стыда, называть Марата гражданином. Этот бешеный зверь никогда и не был таковым. Теперь, после 31 мая и 2 июня, мы видим, что сам Марат думает о себе: ему и не нужно быть гражданином; он хочет называться диктатором, как Сулла и Цезарь; и так же как Сулла и Цезарь, он намерен попрать Республику своею стопою». Мария выписывала на отдельный листок кроткие фразы и целые предложения, чтобы продолжить и развить заключённые в них мысли. Постепенно к «Воззванию» Барбару накопились пространные комментарии, о которых автор и не ведал. «Благополучие Франции зависит от исполнения законов», – писал марселец. «Поправ эти законы, – добавляла Мария, – анархисты сами и лишились их защиты. Подняв руку на священные права Нации, они обратили всю Нацию против себя. Обнажив оружие и пролив человеческую кровь, они заслужили того, что на них самих обрушится карающий меч…»
Таковы были рассуждения нашей героини, которые ввиду предстоящей поездки в логово этих самих анархистов она сочла нужным предать огню. Следом за книжкой Барбару и комментариями к ней в печь отправились «Краткий рассказ о событиях, происшедших в Париже 31 мая – 2 июня» Горса, «Обозрение доклада о 32-х проскрибированных бриссотинцах» Луве, «Обращение депутата Бергоена к своим избирателям и всем гражданам Республики», а также прокламации повстанческого Собрания Кана, ставшего затем «Центральным советом сопротивления насилию и угнетению».
Через полчаса секретер Марии почти опустел. Остались лишь её рисунки на больших альбомных листах, аккуратно подшитые друг к другу и составившие две объёмные тетради. Жалко предавать огню эти дорогие её сердцу творения, может быть, единственное, что ей по-настоящему удалось. В первой тетради собраны пейзажные зарисовки: живописные каналы Кана, из-за которых его называли нормандской Венецией, причудливые извилины реки Орн, цветущий сад монастыря Аббе-о-Дам, прелестный луг у Лувиньи. Во второй тетради групповые сценки: вечер в салоне мадам Левальян, заседание Якобинского клуба, праздничный фейерверк в канской крепости, женщины Кана жертвуют свои серьги Отечеству, а также отдельные портреты: отец в парадной форме, важно опирающийся на золочёную трость, – работа пятилетней давности, – сестра Жаклин за рукоделием; Роза Фужеро, играющая на арфе; Бугон-Лонгре верхом на коне, натягивающий удила и готовый пуститься вскачь; он же у себя в кабинете, сидящий у горящего камина с книгой Вольтера в руках. Ещё один такой рисунок Жан Ипполит выпросил для себя, потом долго уговаривал Марию сделать дарственную надпись, но получив её, заметно расстроился: под рисунком появилась всего одна сухая строчка: «Моему другу, гражданину Бугону. Мария Корде. Кан, 23 февраля 1793, II года Республики».
Последний рисунок был не окончен: в римском сенате республиканец Брут в белой античной тоге, с пылающим взором южанина и густой чёрной шевелюрой, разметавшейся по плечам, заносит обнажённый кинжал над сидящем на троне Цезарем. Тот, кто видел античные бюсты Брута, не мог не заметить, что у него была весьма короткая причёска.
В коридоре послышались тяжёлые шаркающие шаги, кто-то тронул ручку двери, но, запертая на крючок, она не открылась.
– Кто там?! – громко спросила Мария.
«Обедать!» – донёсся из коридора голос мадам Бретвиль. Кузина всё ещё силилась открыть дверь, и крючок звякал, подпрыгивая в железной петле. «Сейчас приду!» – отозвалась Мария, торопливо пряча тетради обратно в секретер. «А от кого ты закрылась, Мари?» – недоумевала хозяйка за дверью. – «Я не одета». Старушка хмыкнула и оставила дверь в покое; через минуту послышались её удаляющиеся шаги.
Марию удивило, что хозяйка не поленилась самолично прийти и позвать её к столу. Обычно это делала кухарка, да и то лишь тогда, когда Мария слишком задерживалась и не поспевала к урочному часу. Бывало и так, что она вообще оставалась без обеда. А тут такая забота! Видимо, здорово всё-таки она поразила кузину заявлением о своём завтрашнем отъезде. И хотя голос хозяйки по-прежнему звучал не очень любезно, сам приход её уже говорил о многом. Да, взволновалась бедная старушка… Надобно успокоить её. Вести себя как ни в чём не бывало, словно бы и не было неприятного разговора во внутреннем дворике.
Большая Обитель. 7 часов вечера
Столовая мадам Бретвиль была едва ли не самым тёмным помещением в Большой Обители. Через узкое окно с закопчёнными стёклами проникало так мало света, что приходилось зажигать несколько светильников, чтобы что-нибудь разглядеть. Копоть исходила от расположенной здесь же печи, у которой трудилась кухарка Габриель, приходившая в Большую Обитель по утрам и вечерам. Вдоль небелёных кирпичных стен тянулось несколько старинных шкафов, заполненных разнообразной посудой, ещё более ветхой, чем сами шкафы. Посреди столовой громоздился длинный дубовый стол из тех, какие встречаются только в старых дворянских домах или даже в средневековых замках, по обеим концам которого стояло по жёсткому креслу из орехового дерева, а с боков – ещё пара стульев со спинками. Особенно нелепо выглядел установленный здесь же неработающий клавесин эпохи Людовика XIV. После того, как хозяйка закрыла на два замка гостиную, а после неё и другие помещения, которые она сочла излишними для пользования, эта тёмная столовая стала одновременно и кухней, и столовой, и гостиной. О прижимистости владелицы Большой Обители в Кане ходили анекдоты.
В этот вечер, как обычно, мадам Бретвиль заняла место у одного конца стола, Мария – у другого, а кухарка подавала им блюда. Пища тоже была обычной: на первое суп с сушёными грибами, на второе жареный в масле тунец, и в завершение вишнёвый компот.
Неожиданно для Марии на обеде присутствовал Огюстен Леклерк вместе со своей женой. Они сидели рядышком на стульчиках и мило улыбались старой хозяйке и её молодой постоялице. Мария вдруг поняла, почему кузина не ложилась сегодня после полудня: она ожидала своего управляющего.
Когда мадам Бретвиль садилась во главе стола посреди своей челяди, она словно бы сбрасывала с себя груз лет и вновь становилась той величавой надменной особой, которая некогда внушала всему Кану почтение и трепет. Среди её предков были маркизы и графы, а её покойный супруг служил королевским казначеем Нижней Нормандии. Так что чувства собственного достоинства хозяйке Большой Обители было не занимать. Уже отведали первое блюдо, перешли ко второму, а она ни словом не обмолвилась об отъезде Марии. Говорили о том и о сём, и, конечно же, речь зашла о беглых депутатах, уже почти месяц укрывающихся в их городе.
– Да, сейчас все разговоры только о них, – заметил Леклерк, когда к нему обратились. – Хотите знать моё мнение, мадам? Эти господа не внушают мне доверия. Я уже говорил мадемуазель Мари и готов повторить: по-моему, они такие же прохвосты как и все прочие политики. Однако справедливости ради нужно заметить, что с ними обошлись незаконно. И отчего это парижане присвоили себе право решать за всех французов? Члены Конвента избирались не только Парижем, но и всей страной. Поэтому всей Франции и нужно решать, что делать с ними.
– Ты, Огюстен, человек рассудительный и, наверное, говоришь дело, – молвила хозяйка неспешно. – Но ты говоришь по-учёному и поэтому не договариваешь до конца. А я скажу по-простому и скажу всю правду. Все безобразия в стране начались с парижан. Вся зараза пошла оттуда. Кто придумал носить эти дурацкие колпаки, какие раньше носили только балаганные шуты? Это придумали парижане. Где начали перекапывать площади и сажать на них взрослые уже деревья[26 - Имеется в виду т. н. «Древо Свободы», увенчанное красным колпаком, вокруг которого водили хороводы и пели революционные песни.], ломая им корни и обрекая на гибель? Начали в Париже. Кто первым навалил перед собором кучу камней и назвал это Алтарём Отечества? Опять-таки парижане. Теперь все толкуют о свободе и равенстве, а двери своих домов, которые раньше всегда держали открытыми, нынче запирают на девять замков. Вот и выходит: свобода нужна тем, кто рвётся творить беззаконие.
– Если я вас правильно поняла, дорогая кузина, – заметила Мария с усмешкой, – парижане не нравятся вам всё же больше, чем бриссотинцы.
Мадам Бретвиль со вздохом откинулась на спинку стула и швырнула салфетку на стол:
– Дались же тебе эти бриссотинцы! Что ты всё трещишь мне о них, не переставая? Кто такие бриссотинцы? Это что, народ такой или такое сословие? Нет ни такого народа, ни такого сословия. Это всё случайные люди: не знаю уж, пострадавшие ли, или получившие по заслугам. Сегодня они есть, завтра нет. Ты, голубушка моя, смотри глубже, туда, где корень зла. Туда, откуда исходят все безобразия.
– Вы говорите о парижанах или о Горе?
– О какой ещё горе? – нахмурилась мадам Бретвиль. – Впору говорить о пропасти, в которую всё катится.
– А я вот что слышала на рынке, – подала голос супруга Леклерка. – Не знаю, верить или нет. Поверить страшно, а не поверить – хуже будет…
– Рассказывай, – милостиво разрешила хозяйка.
– Говорят, что самый главный из этой Горы… Как его?
– Марат, – подсказала Мария.
– Да-да, Марат. Так вот: этот Марат прямо сказал в Собрании[27 - Собрание (l'Assemblеe) – так в просторечье называли высший законодательный орган Франции, – сменявшие друг друга Национальное собрание (1789 г.), Учредительное или Конституционное собрание (1789–1791 гг.), Национальное Законодательное собрание (1791–1792 гг.) и Национальный Конвент (1792–1795 гг.).]: «бретонцы и нормандцы самые ненавистные нам люди на свете». Говорят, что у него уже и списки готовы по всей стране, и количество людей указано, которых нужно истребить: в Ренне – три тысячи, в Бретани – тридцать тысяч, а в нашей Нормандии – триста тысяч. Вот ведь ужас-то какой!
– Не сомневаюсь, что так оно и есть, чтоб его треснуло! – с готовностью согласилась хозяйка. – Кто он по происхождению: итальянец или сардинец? А сардинцы – всё одно, что арабы. От подобных злодеев всего можно ожидать. В Париже уже всё растащили, расхитили, – вот теперь и зарятся на наше добро. Зря, что ли, думаешь, калиф этот присылал сюда своих скупщиков?
– Это которых арестовали в мае месяце?
– Их самых. «Коммерсанты, – говорят, – из Парижа». А под плащами у каждого по пистолету. Нагрянули к Отену, ювелиру: «Как у вас с камушками?» Затем по церквям, по ризницам прошли и всё-всё записывали в книжицу. Золото, стало быть, считали. Один из наших, почтмейстер, улучил момент и заглянул в их карету, а там на стенке буква «М» вышита и под нею скрещённые кинжалы.
– «Марат»! – воскликнула догадливая мадам Леклерк.
– Допустим, дорогая кузина, дело было не совсем так, – возразила Мария со смехом. – И по церквям они не ходили, и о карете, и о скрещённых кинжалах я ничего не слыхивала.
– Ты много чего не слыхивала, голубушка моя, – парировала хозяйка. – Ты и о сардинце-то услышала едва ли не вчера. А я на своём веку слыхала и видала всякое. Поэтому говорю: все бандиты на одно лицо.
Кухарка убрала пустую посуду и подала вишнёвый компот. На колени мадам Бретвиль, мурлыча и облизываясь, взобралась её любимица Минетта. Она жила в Большой Обители уже добрый десяток лет и по своему кошачьему возрасту была такой же старой как и её хозяйка. В прошлом месяце Минетту здорово потрепали соседские кошки, после чего её шею и левую сторону головы охватила огромная опухоль. Чрезвычайно обеспокоенная этим мадам Бретвиль носила кошку к знакомому ветеринару, который сделал ей хирургическую операцию. Теперь, хотя рана понемногу заживала, изрядно похудевшая за это время Минетта, со швами и выстриженной шестью на шее являла собою жалкое и одновременно умилительное зрелище.
Молодую квартирантку Минетта недолюбливала, и когда встречалась с ней, то настороженно поднимала уши и дыбила шерсть. Из-за этой-то кошки и испортились отношения Марии и мадам Бретвиль. Дело в том, что до появления молодой особы Минетта вела себя как вторая хозяйка Большой Обители, для которой открыты все двери. Однажды вечером, идя к себе по тёмному коридору, Мария не заметила, как кошка вместе с нею проникла в её комнату. Только через полчаса, когда непрошеная гостья запрыгнула на стол и попробовала на зуб отмокавшие в стакане кисточки, Мария вскочила на ноги и с помощью чугунной кочерги выгнала кошку прочь. Наверное, при этом Мария слишком энергично размахивала кочергой и пару раз пребольно задела Минетту.
По тому, как повела себя на другой день мадам Бретвиль, Мария не сомневалась, что кошка сумела каким-то образом нажаловаться на неё. «Да, я ударила её, – ответила она на вопрос кузины. – Терпеть не могу, когда кто-то суётся в мою комнату без спроса». После этого случая мадам Бретвиль неделю не разговаривала с Марией, а приходящие в дом гости узнавали, как молодая квартирантка жестоко бьёт и истязает беззащитных животных. Даже после того, как Минетту изодрали соседские кошки, и было понятно, что человек не мог нанести такие раны, мадам Бретвиль всё же не преминула спросить у Марии, не она ли изувечила несчастную тварь.
Итак, обед подходил к концу.
– Совершенно согласен с вами, мадам, – продолжал свою речь Леклерк, всегда согласный с хозяйкой. – В прежние времена господ, подобных мсье Марату, держали в Бастилии под крепким замком. Или четвертовали на Гревской площади, как Картуша. А теперь эти господа заседают в клубах и обществах, пролезли в народные представители и вообразили себя вершителями судеб страны…
Впрочем, владелица дома уже не слушала своего управляющего.
– Завтра я с Габриель собираюсь в Сен-Уэн, – сообщила она, вытирая полотенцем руки. – В девять утра кюре Бюнель отслужит там обедню и примет исповедующихся. Ты пойдёшь с нами, мой друг?
Этот вопрос был обращён к нашей героине. Мария знала, что кузина ходила только к неприсягнувшему кюре Бюнелю и ни к кому другому. Конституционных священников она не признавала, называя их христопродавцами; причём главным христопродавцем в её глазах был департаментский епископ Фоше. И хотя под боком стояли церковь Сен-Жан и просторный собор Сен-Пьер, мадам Бретвиль тем не менее ходила в пригород Сен-Уэн, где в каком-то частном доме служил ещё тот самый священник, из-за которого разгорелся сыр-бор в ноябре 91-го и который уже третий год упорно отказывался присягать Конституции. Именно у этого кюре, в тесноте и духоте его каморки выстаивало мессу, пело «Te Deum» и причащалось почти всё пожилое население Кана.
– Я же вам сказала, кузина, что завтра я уезжаю. Мой дилижанс отправляется в одиннадцать утра.
– В одиннадцать? И я узнаю об этом накануне вечером?! Всего за несколько часов?! Хорошенькие дела… – покачала головою старушка, стараясь не выдать своего изумления. – И что же: ты и вещи уже собрала?
– Мой саквояж ждёт меня в бюро дилижансов.
Теперь четыре пары удивлённых глаз воззрилось на Марию; на лицах кухарки, управляющего и его жены был написан один и тот же вопрос: «Не случилось ли чего-нибудь, мадемуазель?» У кухарки даже задрожала в руках посуда, и Марии показалось, что чашки и тарелки вот-вот упадут на пол. Милая добрая Габриель, души не чаявшая в молодой госпоже, исполнявшая все её прихоти, – уж она-то никак не заслужила такого обращения. Наша героиня покраснела и поспешно добавила:
– Но вам не стоит волноваться. Я уезжаю всего на пару недель. Габриель облегчённо вздохнула, супруги Леклерки вернулись к трапезе, но мадам Бретвиль всё ещё не сводила со своей квартирантки испытывающего взора:
– И куда едешь?
– В Аржантан. К отцу.
– С кем?
– С одной подругой.
– Но ты ведь только что ездила к отцу, на Пасху…
– Я была у отца в апреле, дорогая кузина, – уточнила Мария. – А сейчас уже июль. Прошло почти три месяца.