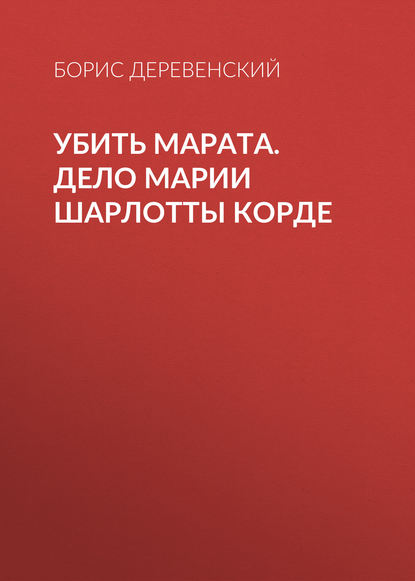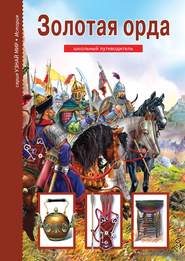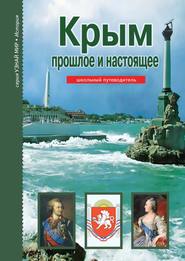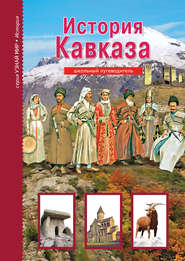По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Убить Марата. Дело Марии Шарлотты Корде
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Марселец пристально взглянул на собеседника:
– Я спрашиваю тебя, Жан.
– Изволь, если ты поедешь, я буду с тобой.
– Прекрасно. Это я и хотел от тебя услышать.
Из письма Барбару к Лоз-Дюперре от 26 июня 1793 г.
В понедельник[22 - 24 июня.] комиссары пяти департаментов прежней Бретани прибыли в Кан, чтобы образовать всеобщий комитет восстания. Их вооружённая сила идёт следом. Крепкий отряд добровольцев отправился сегодня из Кана в Эврё с двумя орудиями, парой зарядных ящиков (caissons) и большим числом крытых повозок, наполненных провиантом. Кавалерия выступает в эту ночь, чтобы занять передовые позиции. Всё вопиет против анархистов. Сообщи мне, что происходит на Юге. Мы встретили одного путешественника, проезжавшего через Лион и Марсель и видевшего четыре великолепных батальона, составляющих авангард марсельской армии. Прощай.
Из мемуаров генерала Вимпфена (до 1814 г.)
Их (бриссотинцев в Кане) было двадцать семь[23 - Это число явно завышено. На момент отправления Марии Корде в Париж в Кане находилось шестнадцать или семнадцать бриссотинцев. Всего в июне-июле 1793 г. в Кан бежало двадцать депутатов правой. Вместе с ними находилась и другие известные деятели, такие как поэт Жире-Дюпре, которых Вимпфен мог также принимать за депутатов.], большинство из них не стоит упоминать, поскольку они не представляют никакого интереса для потомства, – они походили на весь мир и могли принадлежать к одной партии так же, как и к другой, и лишь силою случайных обстоятельств оказались в этом обществе.
Петион и Бюзо имели определённую цель: создание новой династии, при которой они сами станут руководителями. Совершенно как Питт и Кобург они считали, что Горе и Болоту достаточно лишь отсечь голову, не трогая при этом ни эмигрантов, ни ветеранов Революции. Придя однажды в клуб каработов в Кане Петион сказал, что доказательством намерения Горы восстановить королевскую власть является то, что она сохранила жизнь маленькому дофину, чтобы в будущем он оправдал её государственные преступления, достойные смерти. Горса, напротив, склонялся к малолетнему дофину, разумеется, рассматривая его воцарение как последнюю крайность. Луве, Барбару и Гюаде надеялись закрепиться в южной части Франции, по другую сторону Луары, и устроить там Республику на свой лад. Они весьма рассчитывали на помощь владетелей Италии, с которыми они бы заключили наступательные и оборонительные союзы (это лучше всего показывает, насколько эти господа были «государственными мужами»).
Большая Обитель. 3 часа пополудни
От Интендантства до Большой Обители насчитывалось не более пятиста шагов. Уже через три минуты, после того, как Мария покинула кабинет Барбару, она дошла до конца улицы Карме, то есть до её пересечения с улицей Сен-Жан, где напротив церкви стоял старинный домик в три этажа и с тремя окнами на улицу. Неизвестно отчего жители Кана называли этот дом Большой Обителью (le Grand Manoir)[24 - Этот дом сначала имел номер 148, затем – номер 71, несколько раз перестраивался, пока не был совершенно уничтожен в 1944 году, во время бомбандировок Кана немецко-фашистской авиацией. Ныне на его месте стоит современное здание (№ 141 по улице Сен-Жан), в котором имеется шоколадный магазин «Шарлотта Корде».]. Может он и был когда-то одним из самых больших строений в городе, но теперь, на фоне выросших по соседству дородных особняков с колоннами и пышной геральдикой он выглядел убогой хижиной, а громкое название его превратилось едва ли не в насмешку.
В этой-то Обители, не считая семьи столяра Люнеля, снимающей нижний этаж и имеющей отдельный вход, постоянно проживало четверо: вдовствующая домохозяйка, мадам Бретвиль; её любимая кошка Минетта; её верный пёс Азот; и последние два года – «свалившаяся на голову» бедная родственница из Аржантана, то есть наша героиня.
Чтобы попасть к себе, Марии нужно было открыть низкую дубовую дверь, пройти в конец длинного и узкого коридора, где каменная винтовая лестница вела на второй этаж, занятый мадам Бретвиль, миновать хозяйские покои и, сделав поворот, по ещё одному длинному коридору достичь дальней изолированной комнаты, окно которой выходило на задний двор, превращённый в нечто вроде оранжереи. Но был и второй путь, который позволял избежать встречи с обитателями дома. Для этого Марии требовалось обогнуть угол Большой Обители и через узкую арку проникнуть в крохотный дворик, окружённый со всех сторон стенами, отчего в него никогда не заглядывало солнце. Единственное, что помещалось в этом дворике, или, лучше сказать, карцере, – это каменный колодец с деревянной кадкой. Собственно говоря, это был дворик колодца. Здесь, в противоположной от арки стене имелась дверца, через которую по запасной деревянной лестнице можно было попасть в ту же самую изолированную комнату, которую занимала наша героиня.
В этот час обитатели дома, включая кошку и пса, обычно предавались дневному сну, и Мария рассчитывала добраться до своих апартаментов незамеченной. Однако войдя в арку, она увидела во внутреннем дворике мадам Бретвиль, неспешно зачерпывающую воду из колодца и сливающую её в стоящую тут же жестяную лейку: так хозяйка делала всякий раз, когда собиралась поливать свою драгоценную клумбу, разбитую на заднем дворе, позади дома. Вокруг хозяйки вился, вертя хвостом, её любимчик Азот. Мария тут же сделала шаг назад и спряталась за выступом арки, решив подождать, когда мадам Бретвиль наполнит лейку и покинет маленький дворик. Ей вполне бы удался этот манёвр, если бы её присутствие не выдал чуткий пёс, бросившийся к ней с радостным лаем.
– Быстренько же ты вернулась, – проворчала мадам Бретвиль, не поворачивая головы (уже по одному лаю пса она поняла, кто идёт). – Неужели не приняли?
Марии пришлось покинуть своё укрытие.
– О чём вы говорите, кузина? – спросила она, становясь за спиною мадам Бретвиль.
– Как о чём? Ведь ты опять ходила в Интендантство. К вертопрахам этим, к депутатам. Понаехали, будто на бал, распустили трескотню, весь город взбаламутили. И девки, и замужние целыми днями вокруг них вьются. И ты туда же. Два раза ходила с Леклерком ради приличия, а теперь уже и провожатый не нужен. Протоптала дорожку…
Марию покоробил этот тон, и она ответила с некоторым раздражением:
– Какую ещё дорожку? К чему эти намёки?
– Вот и я говорю, что это на тебя не похоже. Разогнала всех женихов, ни одного кавалера вокруг за полёт стрелы не видно, а тут вдруг, очертя голову, кинулась как мотылёк на первый вспыхнувший свет. С чего бы это?
– Что значит «кинулась»? Они – представители народа, и у меня к ним дело. Разве у меня не может быть дел?
– Знаю я твои дела, – отмахнулась мадам Бретвиль. – Дела… Малюешь картинки с утра до вечера или царапаешь бумагу, ничем другим заниматься долго не можешь, всё тебя тяготит, по дому ничего не делаешь; книжки да картинки – вот и все твои дела…
На шее Марии вздулась нервная жилка, но она взяла себя в руки и попыталась снисходительно отнестись к ворчанию хозяйки дома. Чего она, в самом деле, хочет от старой одинокой вдовы, как две капли воды похожей на её канских сверстниц, таких же древних чопорных старушек? Хотя Мария называла её кузиной (по причине точно не установленного родства), по возрасту хозяйка Большой Обители годилась ей в матери или даже в бабушки. Мадам Бретвиль казалась ходячей копией этого тёмного замшелого дома, словно бы выползшего из глубины веков, со скрипучими дверями и ступеньками лестниц (таким же низким и скрипучим был голос хозяйки), с закопчёнными стёклами на окнах, почти не пропускающими дневной свет, с нелепыми кружевами вместо гардин (точь-в-точь как на старомодном хозяйском платье), со столетней рассохшейся мебелью. Единственное, что здесь цвело, это клумба на заднем дворе, – предмет ежедневных забот его владелицы.
– Верно, засиделась ты в девках, – кивнула самой себе старушка, продолжая свою неспешную работу. – Оттого ты и маешься, оттого и бросает тебя из стороны в сторону. Да что проку в этих заезжих ветрогонах? Сегодня здесь, завтра там. Соберут деньги с наших простофиль, испортят девок, и дальше помчатся. Нужны вы им как прошлогодний снег.
– Какие девки?! Какие деньги?! – не выдержала Мария. – Ох, кузина, как же вы далеки от жизни! Сидите здесь как в совином гнезде, дальше своей клумбы ничего не видите, что творится на свете. Какие свершаются события, влияющие на судьбу Франции! Какая гроза нависла над всеми нами. И какое воодушевление народа, какой патриотический энтузиазм, какое мужество в сердцах самых простых людей!
– Патриотический тузиа-азм… – протянула Бретвиль, выпрямляясь и потирая заболевшую поясницу. – Словечек таких набралась, каких в нашем краю испокон веку не водилось. Ты мне ещё про Революцию, про Республику расскажи. Чертовщина какая-то! Была страна, а сотворили из неё сплошной срам. Ладно, там, в Париже давно уже свихнулись, – Бог им судья, – так теперь и сюда докатилось. «Патриотический тузиазм»… А наши-то хороши: как собачки дрессированные, готовы перед ними на задних лапках ходить, сапоги облизывать, всякую их гадость перенять. Тьфу ты, – прости, Господи! – где наша нормандская гордость? Где честь? Где заветы предков?
– Опять вы о предках, о ветхой старине… – отмахнулась Мария, не в первый уже раз слыша это брюзжание. – Ничего вы не понимаете ни в политике, ни в настоящем моменте.
– Ты много понимаешь, домашняя затворница! Я тебе, голубушка, вот что скажу. Выкинь-ка из головы всю эту чертовщину. Спустись на землю и подумай о себе. Долго ли тебе ещё маяться? Нет, не верти головой, а слушай. Ты уже не девка-первоцветок: на носу двадцать пять лет. Смотри, пробежит твоё время, через пять-шесть годков никто на тебя и не взглянет. Я сама в сорок лет вышла за старика и знаю, о чём говорю. Ищи себе мужа, пока не поздно. Вот и весь твой патриотизм.
– Хвала небесам! – воскликнула Мария. – Дошли наконец до главного. Вот что вас заботит!
– Спустись, повторяю, голубушка, на землю, – продолжала хозяйка. – Возьмём хотя бы Жана Ипполита. Серьёзный мужчина. Выбился в большие начальники. И не женат. Вчера заходил сюда: важный такой, в мундире с золотыми пуговицами, при шпаге. Прям как дворянин. Хотя отец его, помню, был бакалейщиком, а дед содержал трактир.
Как только кузина заговорила о Бугоне-Лонгре, Марию внезапно осенило:
– Вот оно что! Жан Ипполит?! Что он наговорил вам обо мне и представителях народа? Неужели он опустился до низкой клеветы? Я была о нём лучшего мнения.
– Ничего он про них не говорил, – отрезала кузина. – Тебя спрашивал и всё. И ушёл весьма огорчённый.
– Так, стало быть, это Леклерку я обязана тем, что о моих делах в Интендантстве вы судите столь превратно? – продолжала Мария в том же резком тоне. – И потом: что это за нелепое сватовство? С каких это пор вы стали заботиться о моём замужестве? Если я вам в тягость, и вам не терпится избавиться от меня, то так прямо и скажите. И я вам отвечу прямо: радуйтесь! Час вашего избавления пробил. Я уезжаю.
– Куда это ты уезжаешь? – обеспокоилась мадам Бретвиль.
– Далеко.
– В Байё?
– Гораздо дальше.
Хозяйка придирчиво осмотрела свою квартирантку и, не заметив ни в её лице, ни в её голосе никакого подвоха, смутилась и озадаченно пробормотала:
– И когда уезжаешь?
– Завтра.
Вполне удовлетворённая эффектом, произведённым на старую ворчунью, Мария повернулась и направилась в свою комнату, представляя, как онемевшая хозяйка ещё стоит во дворике, опустив кадку, из которой течёт на землю вода. В сущности, она была, хотя отсталой и костной, но прямодушной и беззлобной женщиной, способной на сочувствие и сопереживание. Не стоило, конечно, столь сурово обходиться с ней, и, уже войдя к себе, Мария пожалела о своей резкости. Можно было оповестить кузину о своём отъезде помягче. Ведь, как-никак, они прожили под одной крышей два года!
Впрочем, у завтрашней путешественницы имелись другие заботы. До отъезда ей нужно было перебрать свой секретер и уничтожить лишние бумаги. С этой целью она разожгла камин и устроилась перед ним на корточках. В первую очередь огню были преданы письма, полученные ею от своих друзей и подруг. Ведь она не может подставлять под удар близких ей людей! В этих письмах много чего такого, что не следует доверять постороннему взору: личные откровения, непредвзятые суждения, нелестные оценки происходящих событий. Если через некоторое время сюда нагрянут с обыском (а есть всё основания это предполагать), то эти письма, которые уже не в силах будут повредить лично ей, могут, тем не менее, принести неприятности тем, кто их написал. Поэтому их нужно сжечь все до единого. Свой личный дневник она сожгла ещё в апреле.
Далее связка написанных ею самою адресов, петиций и воззваний к Якобинскому клубу в Кане, к Канской Коммуне, к директории департамента Кальвадос и тому подобное. Из всех её сочинений публично оглашён был лишь коротенький «Проект учреждения Женского народного общества в Кане». Мария хорошо помнила тот день. Это было в первый же месяц после того, как она поселилась в Кане, у мадам Бретвиль. Она тогда много писала, и её, как всех активистов, тянуло на трибуну. Она явилась в Общество друзей Конституции в самый разгар заседания, но не уселась покорно на скамейки для зрителей, как то полагалось не членам клуба, а пробралась к столу президиума и попросила десять минут, чтобы зачитать свой проект. Председательствующим тогда был Бугон-Лонгре. При виде тогда ещё незнакомой ему молодой особы, взявшейся неизвестно откуда, но источающей неукротимую энергию, Бугон дал пятнадцать минут.
За то время, пока Мария, стоя перед ним лицом к залу, зачитывала свой проект, он внимательно ощупал взглядом её крепкий стан со всеми выпуклостями, очерченными складками лёгкого розового платья, густые каштановые волосы, мягко ниспадающие на плечи, и горделиво выступающий вперёд подбородок. Его взор задержался на белых перчатках, плотно облегающих длинные кисти рук незнакомки. «Аристократка, – подумалось ему, – а какая бойкая! Откуда взялась? И собою недурна…»
Между тем Мария говорила о том, что пора перестать относиться к женщинам как к существам второго сорта, удел которых – домашнее хозяйство, что настало время активным гражданкам стать рядом с мужчинами в священной борьбе за Свободу и процветание нации. Затем она перешла непосредственно к проекту создания женского общества и стала зачитывать статью за статьей устав будущего клуба, в котором сухие уставные положения были густо перемешаны с громкими декларациями. Знающие люди могли бы заметить, что во многих пунктах Мария повторяет идеи недавно изданного в Париже сочинения Олимпии де-Гуж «Декларация прав женщины и гражданки»[25 - При этом принятая Национальным Собранием 26 августа 1789 г. «Декларация прав человека и гражданина» (Declaration des droits de l'homme et du citoyen) естественным образом понималась как декларация прав прежде всего мужчины (l'homme).].
Члены клуба бурно аплодировали молодой ораторше, осыпали её щедрой похвалой, но никакого решения по её предложению не приняли. Канские революционеры сочли про себя, что в политике достаточно и мужчин, а их послушным жёнам и дочерям полагается сидеть дома за пряжей и рукоделием. Тот случай изрядно остудил общественную активность правнучки Корнеля. Её словно бы окатили студёной водой. Больше с публичными речами она не выступала, а если и приходила в клуб или в департаментскую администрацию, то только лишь уступая настойчивым приглашениям Бугона. В нынешнем году она прекратила и эти посещения.
Языки пламени охотно поглотили густо исписанные листки. На что они ей теперь? К чему хранить эти наивные, никем не принятые прожекты, напоминающие о тщетности её усилий всколыхнуть людские сердца и разом переделать мир? Конечно, в огонь! Сжечь всю эту бесполезную писанину! Теперь она поступит иначе. Больше она не будет разглагольствовать. Довольно пустых слов. Теперь она будет делать дело.
Наконец главное. Бриссотинские документы: целая кипа тоненьких брошюр, напечатанных в Кане на протяжении последнего месяца. Среди них одна измятая книжица, которую Мария постоянно перечитывала и выучила почти наизусть: «Воззвание к французам, друзьям Свободы» Шарля Барбару. Брошюра эта оказала на Марию огромное влияние.