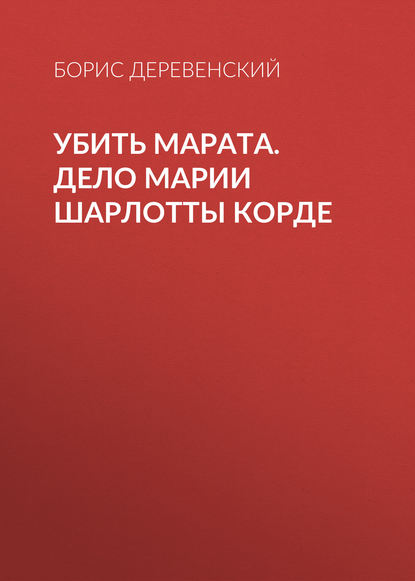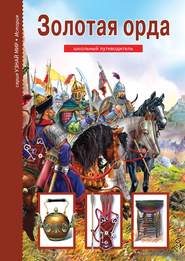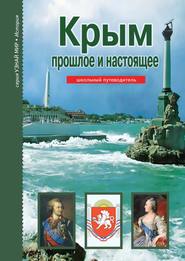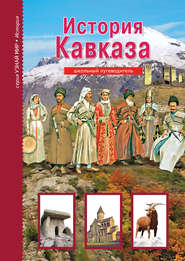По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Убить Марата. Дело Марии Шарлотты Корде
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Конечно, мы там будем! Ради этого мы и едем в Париж.
– Я тоже собираюсь посетить этот праздник, – сказала Мария. – Вполне возможно, вы увидите меня там. И если тогда вы захотите повторить мне то, что твердили всю дорогу, я охотно выслушаю вас.
– Но почему не сейчас?! – нетерпеливо воскликнул Одиль.
– Давайте подождём несколько дней. Обещаю вам, что на празднике Федерации я буду к вам благосклонна. Если вам потребуется тогда моя благосклонность…
У бравого якобинца на этот счёт было иное мнение, и ожидать четырнадцатого июля он вовсе не собирался. Поэтому, улучив момент, когда Мария наклонилась, чтобы зачерпнуть стаканчиком воду из кадки и перелить в свою бутыль, он проворно обхватил её рукою за талию и слегка повернул к себе, верно, чтобы поцеловать в уста. В следующую секунду он получил резкий и сильный толчок в грудь (такой силы он, право, не ожидал от благовоспитанной барышни) и едва ли не отлетел в сторону.
– Не слишком ли вы резвы, гражданин?! – воскликнула Мария, но не гневно, потому что сама была удивлена произведённым ею эффектом; право, ей ещё не приходилось отбиваться от развязных ухажёров. Если бы молодой человек от её толчка упал бы на землю, то она, пожалуй, стала бы ещё извиняться перед ним.
Хотя Одиль устоял на ногах, он оценил неженскую силу своей спутницы и тотчас же понял, что совладать с нею будет непросто. Всё же он не думал отступать: его мужская гордость ни на секунду не могла допустить столь явного поражения.
– Дорогая Мари, – сказал он, вновь приближаясь к нашей героине, – если вы думаете, что у меня недостойные помыслы, то уверяю вас, что это не так. Я человек чести, и в доказательство тому готов немедленно отправиться к вашему отцу, гражданину Рише, чтобы испросить у него вашей руки. Что вы скажете на это?
Торжественный тон, в котором были произнесены эти слова, должен был рассеять малейшие сомнения насчёт серьёзных намерений жениха.
– Неужели, – молвила Мария с невольной улыбкой, – в этом благородном порыве вы даже не доедете до Парижа?
– При чём тут Париж?! – воскликнул честный кавалер, дрожа от волнения и заглядывая ей в глаза. – Речь идёт о нашей с вами судьбе, Мари. Я предлагаю вам руку и сердце.
И, торопясь пресечь те возражения, которые, как он ожидал, могут последовать в ответ на его предложение, поспешно добавил:
– Я не так богат, как ваш родитель, и у меня нет обширных поместий, но, смею вас заверить, это у меня впереди. Ведь мне только двадцать два года! После отца у меня останется дом в Эврё и двадцать тысяч годовой ренты, а кроме того, наследство моего бездетного дядюшки, который проживает в Безье. Это ещё тридцать или сорок тысяч. Уже сейчас я числюсь одним из уважаемых граждан департамента Эр, состою секретарём в секции Свободы и имею все виды, чтобы продвинуться по службе.
– Вы забыли сказать, – заметила Мария с плохо скрытой насмешкой, – что являетесь ещё видным членом Якобинского клуба.
– Да, – подтвердил Одиль с важностью, – да, и клуба…
Наша героиня имела все основания подтрунивать над новоиспечённым женихом. Судя по тому, что он столь подробно остановился на своём имуществе и общественном положении, ясно, что меркантильные соображения имеют для него большое значение, и что он, по всей видимости, прельщён не столько самою Марией, сколько тем жирным куском, который должен отрезать в качестве приданого её мнимый папаша, землевладелец Рише.
Наполнив стакан родниковой водою из кадки, Мария подала его сгорающему от страсти кавалеру. Тот взял стакан и осушил его одним залпом. Мария налила ещё. Но и второй стакан не остудил его пыла.
– Теперь, милая Мари, когда я открыл вам не только своё сердце, но и, так сказать, всего себя, и вы убедились, что я преисполнен самых благородных намерений, вы не станете долее испытывать мои чувства. Вспомните, наконец, о нашей любви и о той клятве, которую мы принесли друг другу в детстве. Помните? Мы поклялись, что, когда вырастем, то сочетаемся браком как муж и жена.
Нет, это уже было невыносимо! Эта глупейшая сцена что-то уж слишком затянулась.
– Мы разыгрываем с вами прекрасную комедию, гражданин Одиль, – сказала Мария, в которой в эту минуту, верно, заговорила кровь её предка, драматурга Корнеля. – Как жаль, что при таком талантливом исполнении отсутствуют зрители! Давайте пойдём, позовём наших спутников, чтобы они смогли по достоинству оценить этот спектакль.
И быстрым шагом направилась к дилижансу.
В её словах было столько ядовитого сарказма, что даже такой толстокожий битюг и беспечный фат как Жозеф Одиль, не мог не ощутить пребольной укус. Взгляд его потух, лицо сморщилось, словно бы его окатили кипятком; минуты две он стоял у колодца как вкопанный, опустив руки, и только после внутреннего усилия смог двинуться с места.
В отправляющийся дилижанс он погрузился последним, мрачным, как грозовая туча. Теперь, когда не было старушки Дофен, место рядом с Марией оказалось свободным. Но Одиль сел на своё прежнее место на боковой лавке и тут же потребовал у своего приятеля достать бутылку анжуйского. Всю дорогу до Мёлана они попеременно прикладывались к горлышку, а когда за окном сгустились сумерки, затянули революционные песни, нисколько не принимая во внимание дремлющих в купе пассажиров.
Вперёд, за нашу Свободу!
За наши права – смелей.
В ответ на угрозы народу
Мы свергнем всех королей.
Свобода! Свобода! Какое прекрасное слово!
Трепещите тираны, расплата ждёт.
Лучше смерть, чем ваши оковы,
Так хочет французский народ![43 - Перевод В. Рождественского (1934 г.).]
Из письма Корде, написанного 16 июля в тюрьме Аббатства и адресованного Барбару
Я ехала с добрыми монтаньярами (avec de bons montagnard) и дала им возможность наговориться вдоволь. Их речи, столь же глупые, сколько сами они были неприятны, навели на меня сон, и я уснула. Можно сказать, я проснулась только в Париже. Один из этих попутчиков, вероятно, большой охотник до спящих женщин, принял меня за дочь одного из своих старых друзей, предположил, что я обладаю состоянием, и приписал мне имя, которого я никогда не слыхала. Наконец он предложил мне свою руку и сердце. Мне это надоело, и я сказала ему: «Мы разыгрываем прекрасную комедию. Жаль, что при таком талантливом исполнении отсутствуют зрители; я пойду и позову наших спутников, чтобы они приняли участие в спектакле». Я оставила его в очень скверном расположении духа. Ночью он напевал жалобные песни, располагающие ко сну…
Из статьи Фабра д'Эглантина «Физический и моральный портрет Шарлотты Корде»
Когда в ней говорила природа, она испытывала лишь неприязнь и отвращение. Чувственная любовь и её приятные волнения вовсе не касались этой женщины, исполненной претензий на знания, остроумие, крепкий рассудок, национальную политику, охваченной манией философии, переходящей в очевидную экзальтацию.
Разумные и любезные мужчины не любят женщин этого сорта и скоро разочаровываются в них, поняв, что приняли их презрительность за характер, а их досаду за силу воли; им претят их вкусы и привычки, переходящие уже ту грань, после чего они вырождаются в странности и в так называемую философскую распущенность (licence philosophique).
Шарлотта Корде, слишком заносчивая уже в силу предрассудков своего происхождения, своей веры, которая превосходила её разум и мораль, не находила вокруг себя пищу для своей гордыни. Родившаяся в проскрибированной касте, прежде столь горделивой и уважаемой, а ныне столь униженной, она воодушевлялась туманными и неудобоваримыми чтениями – из-за отсутствия поклонников, и имела пустое сердце – из-за отсутствия наслаждений. Обладая беспокойным и мятежным нравом, эта женщина мечтала окончить свою жизнь подобно Герострату.
11 июля, четверг
Пуасси – Париж. Первая половина дня
В четверг путники пробудились где-то между Пуасси и Нантером. Дорога, бывшая до этого почти пустынной, теперь кишела от множества экипажей, то и дело попадавшихся навстречу. Дилижанс набирал скорость: до Парижа было рукой подать. Поначалу проснулись лишь женщины и кондуктор, который ночью покинул возницу и перебрался в купе. Оба бравых якобинца, вдоволь нагорланившись за ночь, теперь спали как убитые, сжимая друг друга в объятиях. Под ногами пассажиров катались опустошённые ими бутылки. Ночью Мария слышала сквозь сон, как гражданка Прекорбен пыталась утихомирить разошедшихся молодчиков, которые не давали уснуть её дочурке. Те затихали, но лишь на время, и вскоре опять затягивали песни, одна другой революционнее. В другое время патриотичная гражданка Прекорбен, возможно, была бы не прочь спеть вместе с ними, но сейчас, в ночной дороге, держа на коленях хнычущее дитя, она не могла не возмутиться. Мария слышала даже, как один раз гражданка обозвала друзей грязными пропойцами.
Если бы путешественники не проснулись в скверном настроении, они бы непременно раздвинули занавески на окнах купе, чтобы полюбоваться на окружающий их живописный ландшафт. Дорога проходила в излучине Сены, делающей здесь такие крутые повороты и замысловатые петли, как, пожалуй, никакая другая река в мире. Чтобы пройти, например, пешком от Сен-Клу до Буживаля, хватило бы и двух часов, тогда как путешествие в речной барке между теми же пунктами отнимало почти весь день. Но именно эта холмистая возвышенность, заставившая реку течь столь причудливым образом, и создавала неповторимое очарование этих мест. Начиная от Пуасси дилижанс четыре раза пересекал Сену по широким мостам, двое из которых были деревянными и разборными, чтобы иметь возможность пропускать большие суда, двигающиеся по реке. Вдали, на горизонте клубился белый дым, поднимающийся, верно, из многочисленных труб и дымоходов большого города. Это был Париж, уже пахло Парижем.
С последнего моста Нейи открылся изумительный по своей красоте вид на Сену, огибающую Булонский лес. Каменный мост в пять пролётов был построен совсем недавно, при Людовике XVI, и тотчас же сделал оживлёнными эти берега. По водной глади скользили галиоты и лодки под парусами, в глубине пышной зелени белели живописные домики. Позже, при Наполеоне, парижская знать построила здесь немало роскошных вилл.
Через полчаса после того, как проехал наш дилижанс, по этому же мосту в обратную сторону, грохоча, проследовала тяжёлая берлина, запряжённая шестёркой лошадей. На козлах её вместе с кучером сидел жандарм, вооружённый фузеей, а позади на коне гарцевал курьер военного министра. В этой берлине ехали депутаты Дюруа и Робер Линде, назначенные новыми комиссарами Конвента в департаменты Эр и Кальвадос. В первоочередную задачу их входило собрать разрозненные республиканские части близ Боньера, привести их в боевую готовность и оказать отпор идущим на Париж федералистам.
«О-о, как раскалывается голова! Где мы едем? Почему мы до сих пор не в Париже?» – это проснулись славные якобинцы Эврё, громко зевая и потягиваясь на лавке. «Будем, как и положено, к одиннадцати часам», – ответствовал им кондуктор. – «И всё-таки следует хорошенько выдрать твоего возницу, – заявили друзья. – Уже светлый день, а мы всё ещё плетёмся невесть где. Не иначе он опять напился и плутал ночью, залезая во все канавы». Кондуктор мог бы сказать, кто тут на самом деле пьяница, но, переглянувшись с женщинами, благоразумно воздержался от замечаний.
Последняя смена лошадей, последняя проверка документов на почтовой станции Нейи, и в половине десятого часа утра дилижанс выехал на финишную прямую. Дорога сделалась на удивление прямой и ровной: чувствовалось приближение столицы. Вот уже оставлен позади Саблонский парк, проплыли по правую руку Елисейские поля с их аккуратно подстриженными деревьями, замелькали по обочинам пригородные дачи, трактиры и кофейни; вот уже справа и слева появились многоэтажные дома, колёса застучали по мостовой, и дилижанс въехал в великий город.
Париж и в самом деле был огромен. Среди бесчисленных домов всевозможной величины и достоинства, теснящихся на извилистых улицах, паутиной опутавших город, в невообразимой людской толчее человек должен был казаться себе ничтожной букашкой, – особенно, если этот человек вырос на природе, в маленьком провинциальном городке, где всё вровень с ним, где трёхэтажный дом – редкость, и где из конца в конец можно пройти за двадцать минут, иногда даже не встретив при этом ни единой души. Для нашей путешественницы Париж поначалу представился каким-то египетским Лабиринтом, в котором можно плутать до конца жизни. О том, что в столице «голые» улицы, перед домами нет ни садиков, ни клумб, и стоят они в один ряд, впритык друг к другу, это она уже слышала от друзей и знакомых, побывавших в Париже, и не очень этому удивилась. Но она не ожидала, что ряд однообразных, похожих друг на друга строений может продолжаться до бесконечности.
Полчаса, пока дилижанс продвигался к площади Национальных Побед, Мария, прильнув к окошку, не отрываясь, разглядывала нескончаемую чреду зданий. Сочтя это за восторг глухой провинциалки, граждане Одиль и Дарнувиль переглянулись и не преминули блеснуть своим знанием столицы:
«Обратите внимание, любезная Мари: мы едем по улице Сен-Оноре, одной из длиннейших улиц Парижа. Вот мы сворачиваем на площадь Пик[44 - Так в годы Революции называлась Вандомская площадь.], где состоялись похороны Лепелетье. Теперь мы выезжаем на улицу Нёв-де-Пети-Шам, на которой обитают одни толстосумы… Вот этот особняк – бывшее обиталище министра Ролана. Теперь смотрите в обе стороны: справа вы видите знаменитый Пале-Рояль, ныне Дворец Равенства, а слева – Королевскую, ныне Национальную библиотеку. Как вам это нравится?»
Мария рассеянно слушала попутчиков. На самом деле она не испытывала никакого восторга. Напротив, от всей этой мешанины улиц и нагромождения домов у неё зарябило в глазах и возникло головокружение. Она почувствовала огромную усталость и желание побыстрее добраться до постели.
Перед площадью Побед экипаж свернул на улицу Нотр-Дам-де-Виктуар и въехал во двор Генерального бюро национальных перевозок, бывшей Службы королевских дилижансов. Ежедневно сюда прибывало до тридцати экипажей со всех концов страны: из Руана и Амьена, из Лилля и Валансьена, из Меца, Страсбурга, Лиона, Клермон-Феррана, Пуатье, Бордо и далёкой Тулузы. Громыхая колёсами, один за другим в ворота вваливались дилижансы и берлины; весело звеня колокольчиками подкатывали кабриолеты; въезжали charrettes и carrioles; поднимая облака пыли спешили пассажирские фургоны, телеги и тележки. Иной раз во дворе Генерального бюро показывался и жилистый мужичок, тянущий на себе кибитку на двух колёсах (chaise), в которой сидел какой-нибудь понтуазец или версалец. Почти весь общественный дорожный транспорт Франции съезжался сюда. Мы говорим «почти весь», потому что в отдалённых провинциях имелись свои компании, занимавшиеся междугородним извозом.
На конечную остановку наши путешественники прибыли в половине двенадцатого. Пассажиры сошли на мостовую, выгрузили багаж, и Мария оказалась один на один со своим саквояжем, нести который она была уже не в силах. Между тем друзья-якобинцы действовали споро: пока Дарнувиль сторожил общую поклажу, Одиль побежал на площадь Побед и поймал извозчика.
– Садитесь с нами, Мари, – предложили они. – Куда вам ехать?