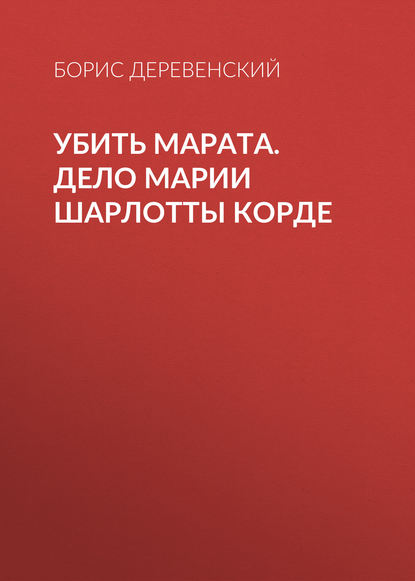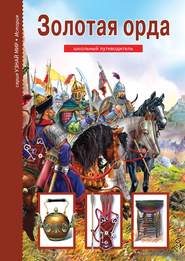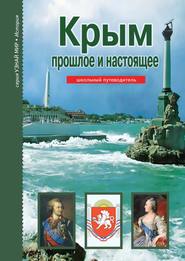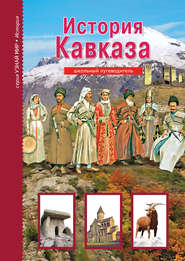По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Убить Марата. Дело Марии Шарлотты Корде
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В этот момент на площади вновь зазвучала барабанная дробь. Речи депутатов закончились; начинался парад гарнизонного войска.
– Скорее, скорее! – вскрикнула Роза, прибавляя шаг.
Хотя Бугон и доставил подруг к крутой лестнице, ведущей на помост, подняться вместе с ними не смог. На всех ступенях теснились чиновники и служащие, не реагирующие на крики и требования прокурора-синдика. Помощь пришла с неожиданной стороны. На помосте, прямо напротив лестницы стоял Петион. Услышав за спиною шум, он обернулся, нахмурив брови, но при виде двух молодых особ лицо его прояснилось:
– Пропустите здешних патриоток! Пропустите гражданку Корде и её подругу!
Как славно, что он вспомнил Марию, хотя до этого видел её лишь мельком, когда она приходила в Интендантство. Его зычный, закалённый на митингах голос возымел своё действие. Толпа немного расступилась, подруги пробрались по лестнице наверх, причём Петион протянул им руки, поднял на помост и поставил рядом с собою, у самых перил, на виду у всей площади. Быть может, ему показалось не лишним, чтобы скученную мужскую группу на «трибуне» разбавляла пара изящных женских фигур, а возможно, он подумал, что на их фоне он сам будет лучше смотреться. Как бы то ни было, Роза и Мария оказались в центре событий, между тем как их попечитель Бугон-Лонгре застрял внизу. Впрочем, Роза о нём уже забыла, а Мария радовалась, что избавилась от его назойливых расспросов.
Генерал Вимпфен взмахнул саблей. Два батальона из его бывшего Шербурского войска и отряд национальных гвардейцев Кана, поблёскивая начищенными штыками, сделали разворот и под грохот барабанов начали парадное шествие.
Здесь же, рядом с «трибуной» велась запись в федералистскую армию добровольцев из числа местных жителей. На плакате, протянутом над записными столами, было написано крупными буквами: «Французы, вставайте с оружием в руках на защиту попранного Закона!». К концу парада к этим столам подбежало десятка два канских парней, воодушевленных речами депутатов и готовых пожертвовать своими жизнями ради восстановления конституционного порядка в стране. Даже этот мизерный контингент (вокруг стояло до тысячи здоровых мужчин, которые так и не двинулись с места) привёл горожан в ликование. «Да здравствуют наши герои! Да здравствуют каработы!» – кричали им со всех сторон. Женщины взмахивали шарфами и чепцами, а у Марии от переизбытка чувств на глаза навернулись слёзы. Глядя на неё, прослезилась и Роза.
– Вы плачете, Корде? – спросил Петион, удивлённо поднимая брови. – Отчего же? Ах, кажется, я вас понимаю… Вам стало жаль этих цветущих, прекрасных юношей, ваших друзей и сверстников, которые теперь пойдут в пекло войны, и вероятно, – что делать, такова солдатская доля! – не все из них вернутся назад. Может быть, среди них есть и тот, который особенно дорог вашему сердцу? Да-да, я отлично понимаю вас…
– Ничего вы не понимаете, Петион, в моих слезах! – резко оборвала его Мария, и слёзы её мигом просохли. – Вы мерите всех женщин одной меркой, и все они для вас – легкомысленные ветреные существа, не мечтающие ни о чём другом, кроме плотских удовольствий.
– Это слёзы гордости за наших солдат, – пояснила Роза Фужеро.
Петион несказанно дивился, слушая юных провинциалок. Воображавший себя знатоком женской природы, кумиром столичных дам, очаровавшим саму принцессу Елизавету, он воспринял слёзы двух изнеженных барышень всё с той же хвалёной «проницательностью», какою отличался и в политике. Всё ещё отказываясь поверить, что его стрела пролетела мимо цели, он пытливо вопросил:
– Может, оно и так, но скажите-ка мне, положа руку на сердце: разве вам не было бы приятно, если бы они вовсе не уходили отсюда?
При этих словах Мария отвернулась от Петиона, не в силах более вынести вида его мясистого одутловатого лица, на котором играла самодовольная усмешка. До окончания парада она больше ни словом не перемолвилась с парижским «королём».
После того, как воинская колонна во главе с генералом Вимпфеном прошествовала к выходу из города (можно подумать, прямо в поход) и помост стал понемногу пустеть, Мария сухо поклонилась сановному благодетелю и дёрнула Розу за рукав, увлекая её за собою на лестницу. Последняя сопротивлялась и медлила, надеясь оказаться рядом с Барбару. Однако марселец продолжал о чём-то беседовать со своими коллегами-депутатами и, казалось, вовсе не замечал присутствия на «трибуне» двух девушек. Что же до Бугона-Лонгре, застрявшего внизу, то он был оттеснён спускающимися по лестнице представителями народа, так что подруги уже не встретили его на пути, о чём, впрочем, не очень сожалели.
– Ты такая храбрая! – сказала восхищённая Роза, когда они удалились от Гран-Кура на порядочное расстояние. – Так смело говорила с этим, в парике… Он даже оторопел. Правильно, так и надо. Я тебя поддерживаю. В самом деле: отчего столь пренебрежительное отношение к нашему полу? Кем нас считают? Мы и не девочки уже: тебе двадцать четыре, мне двадцать два. В таком возрасте мужчины уже командуют батальоном, а то и полком.
– Подожди немного, – молвила Мария приглушённым голосом. – Скоро они раскаются в своих сомнениях на наш счёт. – Её глаза устремились куда-то вдаль, и в них зажёгся какой-то странный огонёк, – Да, раскаются… Gladius, gladius exacutus est et limatus, ut caedat victimas exacutus est, ut splendeat limatus est![11 - «Меч, меч наострён и вычещен; наострён для того, чтобы больше заколать, вычещен, чтобы сверкал как молния» (лат.) – Иез 21:9–10.]
– Это по-латыни? – спросила Роза. – Из Цицерона? Звучит как-то угрожающе…
– Это из Библии.
– Из Библии?! О чём же это?
– Мне трудно перевести.
– Какая ты интересная! Помнишь то, что читали в монастыре…
– Нет, этого там не читали.
Донесение в Комитет общей безопасности от 8 июля
Город Кан, департамент Кальвадос, 8 июля 5-го года Свободы, 2-го года Республики единой и неделимой.
Петион, Салль, Бюзо и Барбару по очереди выступали в прошлую пятницу на собрании посланцев восьми департаментов Нормандии и Бретани. Они призывали уничтожить якобинцев, сокрушить Гору, разогнать Конвент и потопить в крови Парижский муниципалитет. В результате этих подстрекательских речей было постановлено создать особый Совет, который займётся формированием федералистской армии числом в десять или пятнадцать тысяч человек, чтобы идти походом на Париж. Командующим этой армией избран генерал Вимпфен. Вчера, в воскресенье, на Гран-Куре состоялся смотр собранных к этому времени сил – около шестисот солдат. Хотя Барбару, Бюзо, Гюаде и Петион опять держали подстрекательские речи, под их знамёна вступило только семнадцать добровольцев вместо ожидаемых многих сотен.
Однако мятежники всё ещё не теряют надежды собрать многочисленное войско. Ожидается прибытие трёх батальонов из Бретани. Передовому отряду, находящемуся в Эврё, состоящему из драгунов Ла-Манша и стрелков Эра, общим числом в четыре сотни сабель, отдан приказ начать движение на Париж по дороге через Пасси, Брекур и Мант.
Настоящее письмо доставит вам добрая гражданка, являющаяся истинной республиканкой.
Спасение и братство!
Гражданин П. Л.,
член Общества друзей Республики города Кана.
P.S. Представителей [народа], заключённых в Испанской гостинице, перевели в донжон городского замка и усилили охрану. Нет никакой возможности связаться с ними.
* * *
Пятый год Свободы… Ослепительное солнце сияло над Каном, щедро заливая светом его небольшие улицы, узкие переулки и крохотные дворики. Прошедший военный парад понемногу перерастал в общегородское празднество и народное гулянье. Были открыты все кабачки и закусочные, отовсюду неслись смех и веселье. Мужчины и женщины, взявшись за руки, отплясывали карманьолу. Давно уже Кан не испытывал такого приподнятого настроения. Сказать по правде, город привёл себя в более или менее благопристойный вид только с появлением парижских гостей. Шестнадцать членов Национального Конвента, хотя и беглых, – в заштатном городке это было совершенно небывалым событием (впору открывать маленький Конвент) – заставили канцев позабыть о своих внутренних склоках и почувствовать себя ответственными за судьбу всей страны. До приезда депутатов тут творилось бог весть что. Если рассказывать всё по порядку, получится история не менее бурная и не менее драматичная, чем громкие события в Париже.
Поначалу разбуянилась деревенская округа. Хотя нападения на помещичьи амбары и усадьбы происходили и раньше, но делали это не столько крестьяне, сколько бродячие шайки, внезапно выскакивающие из леса и скрывающиеся в нём вместе с награбленным добром. Теперь же к ним всё чаще стали присоединяться местные жители, деревенская голытьба, всякие оборванцы, гуё[12 - Гуё (gueux) – букв. «босяк (-и)», в годы Революции собирательный термин, обозначающий, с одной стороны, нищих, бродяг, людей низкого сословия, а с другой стороны – негодяев, смутьянов, бунтовщиков.]. Помещики яростно защищали своё имущество, и тогда их стали резать, а усадьбы жечь, – сперва как бы случайно, в пылу возмущения, а затем всё более целенаправленно и ожесточённо. Помещики бросали имения и вместе с семьями спасались в городах. За год с небольшим в Кан переселилось от трёхсот до четырёхсот дворянских семей, либо купивших жильё, либо разместившихся у своих родственников.
Впрочем, в городе тоже становилось неспокойно. В питейных заведениях собирались местные санкюлоты (в Нормандии их называли каработами), зрело недовольство, раздавались угрозы, и можно было не сомневаться, что рано или поздно бунтари перейдут от слов к делу. Расправы начались уже летом 89-го года. Хлеботорговец Пажоль был обвинён в том, что скупал повсюду хлеб и уничтожал его, чтобы обречь людей на голод. Сбежавшаяся голытьба взломала замки и обшарила амбары Пажоля в поисках горелого зерна, а его самого потащила на суд в муниципалитет. Два бравых каработа тянули верёвку, привязанную к шее перепуганного торговца, а бегущая справа и слева толпа награждала вредителя тумаками.
Счастливый господин Пажоль! – он отделался шестью месяцами тюрьмы и конфискацией имущества. В других городах богачей просто вешали. В Ренне при стечении народа на площади был забит до смерти майор королевской пехоты Бельзунс, дальний родственник настоятельницы монастыря Аббе-о-Дам, при котором воспитывалась Мария. Его тело разрубили на части, после чего реннские женщины, подёнщицы и прачки, насадили эти куски на веретена и торжественно носили по городу. «Женщины во сто крат более жестоки в своих ужасных увлечениях», – писал с горечью Бомарше, автор «Женитьбы Фигаро», после того, как к нему в дом, в Париже, нагрянула с обыском толпа революционных фурий, и он едва спасся чёрным ходом.
Итак, 89-й и 90-й года стали в Нормандии едва ли не самыми кровавыми. Революция ещё толком не вступила в провинцию, а жертвы её исчислялись уже сотнями. К своему счастью Мария Корде не застала этого всплеска насилия, поскольку до февраля 91-го года оставалась жить в пансионе при монастыре; затем, после его закрытия, провела некоторое время в отцовском поместье и появилась в Кане лишь в июне того года. Обо всех этих стихийных расправах она знала лишь понаслышке, по рассказам подруг и знакомых, и искренно разделяла их возмущение. Ей было очень обидно, что великие идеи Руссо и Рейналя о всеобщем равенстве и братстве так безбожно извращаются тёмными, необразованными и сомнительными личностями, которым почему-то всегда достаются первые роли в народном движении.
Революция вступила в Кан в виде трёхцветных знамён, красных фригийских колпаков, патриотических лозунгов и вороха хлёстких брошюр. Слово «аристократ» стало синонимом слову «кровопийца». Городской муниципалитет объявил себя Домом Коммуны, городская милиция – Национальной гвардией, а всё мужское население было приведено к присяге на верность Конституции. Город разбили на пять секций: Свободы, Гражданственности, Стойкости, Равенства и Единства. Почти все улицы были переименованы: улица Сен-Пьер стала улицей Революции, Темничная улица – улицей Свободной Нации, а улица Сен-Жан, на которой проживала Мария, сделалась улицей Равенства. На Королевской площади сбросили статую Людовика XV и посадили Древо Свободы, перед собором Сен-Пьер соорудили Алтарь Отечества, а в каждом учреждении установили бюсты Катона и Брута (позже к ним присоединился бюст Лепелетье).
В конфискованной церкви Сен-Жюльен открылось Общество друзей Конституции, иначе говоря, местный Якобинский клуб, уменьшенная копия знаменитого парижского клуба. Вступительный взнос составлял шесть ливров; женщины не принимались, но им было позволено наблюдать с церковных хоров за шумными сборищами своих революционных мужей и братьев, а иногда даже участвовать в прениях.
В театре шли трагедии: «Коварство бывших королей», «Преступления феодализма», «Жертвы монастырей», комедии: «Королевская оргия или пирушка Австриячки»[13 - Имеется в виду королева Мария Антуанетта, которая была австрийской принцессой.], «Тайные утехи епископов», «Бракосочетание Папы». То, чему вчера ещё поклонялись и перед чем благоговели, было подвергнуто беспощадному бичеванию.
Представления чередовались с выборами: на оглушительных, орущих до хрипа собраниях избирали то заседателей совета Коммуны, то депутатов Законодательного собрания, то членов департаментской директории, окружного и городского суда, то, наконец, попечителей сиротского приюта.
Число торжеств превысило всякие разумные пределы. Помимо общенациональных ежегодных праздников вроде 14 июля[14 - Праздник в честь падения Бастилии 14 июля 1789 г., называвшийся в Париже сначала «праздником копий», а затем праздником Федерации.] и 10 августа[15 - 10 августа 1792 г. был взят штурмом королевский дворец Тюильри в Париже.] департаментские власти учредили собственные праздники и памятные дни; так же поступала городская Коммуна и почти каждая секция. Еженедельно устраивались парадные шествия с барабанным боем, сверкали фейерверки, зажигались бумажные лампионы, мужчины и женщины прогуливались, украшенные трёхцветными республиканскими лентами, танцевали, распевали Карманьолу и заключали друг друга в патриотические объятия (l'accolade patriotique).
Но все эти внешние атрибуты народного счастья не могли ни смягчить людские сердца, ни уменьшить насилия, пустившего в обществе глубокие и прочные корни. 23 августа 91-го года Якобинский клуб Кана опубликовал полный список переехавших в город аристократов, которые в опасении за свою жизнь покинули окрестные поместья. Список сопровождался точным указанием их места жительства и размеров годового дохода. Тем самым была указана цель и дан сигнал к травле.
С тех пор какие только обвинения не звучали в адрес титулованных особ! Это они, подлые кровопийцы и извечные враги народа вызвали дороговизну продуктов, из-за них произошло несколько пожаров, из-за них рухнул во время праздника крытый павильон и побил людей, потому что были подточены его опоры. А когда в городе внезапно распространилась оспа, уже никто не сомневался, что её нарочно занесли вредоносные аристократы. Не проходило недели, чтобы ретивые клубисты не возбуждали судебное преследование против какого-нибудь дворянина, благо городской муниципалитет, то бишь Коммуна, была в их руках.
Преследуемые, в свою очередь, искали поддержки в окружной администрации и в директории департамента, где они имели немало сочувствующих. Бывшие маркизы, бароны и шевалье инстинктивно потянулись друг к другу; у них даже образовалось нечто вроде своего клуба с членскими взносами, печатным органом и вооружённой охраной. На заседаниях этого общества поговаривали, что надо приложить все усилия, чтобы провести в Коммуну своих людей и что прежнее наплевательское отношение к выборам в местные органы власти было непростительной ошибкой. Известие об этом особенно встревожило клубистов: они поняли, что противник не думает капитулировать и даже напротив, готовится перейти в наступление. К ноябрю 91-го года положение обострилось настолько, что открытое столкновение стало неминуемым.
Поводом к нему послужило письмо тогдашнего министра внутренних дел Делесара, направленного городской Коммуне, в котором требовалось неукоснительно соблюдать принцип свободы культов и не чинить никаких притеснений неприсягнувшим священникам[16 - Имеется в виду священники, отказавшиеся присягать гражданской Конституции духовенства, принятой Учредительным собранием 24 августа 1790 г. и одобренной королём.]. К этому времени большинство непокорных кюре было уже изгнано из своих приходов, и на их месте служили мессу сознательные пастыри, признавшие Революцию.
Письмо Делесара ободрило всех «бывших». На другой день неприсягнувший кюре Бюнель в сопровождении своих каноников, певчих и большой толпы аристократов явился в отобранную у него церковь Сен-Жан, выпроводил из неё конституционного «самозванца» и отслужил торжественную мессу с пением «Te Deum»[17 - «Te Deum laudamus» («Тебя, Боже, хвалим») – церковный католический гимн, называемый также гимном св. Амвросия, исполняющийся в конце заутрени в торжественных случаях. Во время Революции исполнение «Te Deum», по крайней мере, в войсках, было официально заменено исполнением «Марсельезы».]. Со всех концов города к церкви потянулись верующие, обрадованные возвращением любимого пастыря. Клубисты тут же забили тревогу; не мешкая, собрался генеральный совет Коммуны, в церковь были посланы муниципальные офицеры, следом стали подтягиваться части национальной гвардии. Обстановка накалялась с каждой минутой. Возникшая у дверей церкви перепалка между патриотами и аристократами быстро переросла в кулачный бой, закончившийся перестрелкой на близлежащих улицах и на площади Сен-Совер. С обеих сторон в ход пошли сабли, пистолеты и фузеи. Четверо клубистов получили тяжёлые ранения. Справиться с аристократами смогла лишь подоспевшая национальная гвардия.
Коммуна не сомневалась, что имеет дело с контрреволюционным мятежом. Немедленно начались аресты руководителей путча и просто подозрительных лиц. Облава продолжалась до глубокого вечера; было схвачено до двухсот человек, которых заперли в городской цитадели. Клубисты вкушали победу, но для полного удовлетворения им не хватало лавров спасителей Свободы. Они искали настоящие улики. Когда у одного из задержанных обнаружили письмо под названием «проект объединения (projet de rassemblement)», победители исполнились истинным вдохновением: ещё бы, раскрыт злодейский заговор, направленный на истребление народной власти! Работа Коммуны закипела с новой силой. И не беда, что в пылу следствия главою заговорщиков записали бывшего маркиза, возраст которого перевалил за 77 лет и который едва шевелил языком; главное – теперь есть о чём говорить народу и рапортовать в Париж.
Впрочем, столица не торопилась поздравлять провинциальных героев. Департаментские власти доложили Законодательному собранию иную версию происшедшего, а генеральный прокурор-синдик Кальвадоса мсье Байё прямо обвинил Коммуну Кана в раздувании ажиотажа и превышении своих полномочий. Для обеспечения порядка в Кан были направлены линейные войска, не подчинявшиеся местной Коммуне. Клубисты восприняли это как тяжкое оскорбление, и хотя затем Законодательное собрание декретировало предание суду 84-х арестованных ими заговорщиков, включая и 77-летнего маркиза д'Эрици, обида на парижские власти надолго запала в душу канских патриотов. Не потому ли через полтора года они поддержали бежавших из Парижа депутатов и оказались в авангарде федералистского движения?
Как бы то ни было, первая победа, пусть и не полная, была ими всё же одержана. Город Кан очистился от проклятых аристократов, а в церкви Сен-Жан вновь воцарился конституционный священник (Мария Корде жила напротив этой церкви и прекрасно видела всё происходившее). Теперь на очереди была департаментская администрация, всё это время тайно интриговавшая против истинных патриотов и жаловавшаяся на них в Париж. Революционеры готовились к новым боям.
Из всех народных обществ в лидеры выбились каработы, – лихие парни с городских окраин, гудевшие ещё вчера в кабаках и трактирах, а ныне заседающие в большом зале с колоннами, имеющие собственную форму, оружие и знаки отличия. На их знамени было написано: «Исполнение закона или…», и ниже красовалось изображение человеческого черепа со скрещёнными костями в обрамлении языков пламени. «…Или смерть», – хотели сказать отважные каработы, подчёркивая свой патриотизм, но на деле получилось нечто пиратское.
– Скорее, скорее! – вскрикнула Роза, прибавляя шаг.
Хотя Бугон и доставил подруг к крутой лестнице, ведущей на помост, подняться вместе с ними не смог. На всех ступенях теснились чиновники и служащие, не реагирующие на крики и требования прокурора-синдика. Помощь пришла с неожиданной стороны. На помосте, прямо напротив лестницы стоял Петион. Услышав за спиною шум, он обернулся, нахмурив брови, но при виде двух молодых особ лицо его прояснилось:
– Пропустите здешних патриоток! Пропустите гражданку Корде и её подругу!
Как славно, что он вспомнил Марию, хотя до этого видел её лишь мельком, когда она приходила в Интендантство. Его зычный, закалённый на митингах голос возымел своё действие. Толпа немного расступилась, подруги пробрались по лестнице наверх, причём Петион протянул им руки, поднял на помост и поставил рядом с собою, у самых перил, на виду у всей площади. Быть может, ему показалось не лишним, чтобы скученную мужскую группу на «трибуне» разбавляла пара изящных женских фигур, а возможно, он подумал, что на их фоне он сам будет лучше смотреться. Как бы то ни было, Роза и Мария оказались в центре событий, между тем как их попечитель Бугон-Лонгре застрял внизу. Впрочем, Роза о нём уже забыла, а Мария радовалась, что избавилась от его назойливых расспросов.
Генерал Вимпфен взмахнул саблей. Два батальона из его бывшего Шербурского войска и отряд национальных гвардейцев Кана, поблёскивая начищенными штыками, сделали разворот и под грохот барабанов начали парадное шествие.
Здесь же, рядом с «трибуной» велась запись в федералистскую армию добровольцев из числа местных жителей. На плакате, протянутом над записными столами, было написано крупными буквами: «Французы, вставайте с оружием в руках на защиту попранного Закона!». К концу парада к этим столам подбежало десятка два канских парней, воодушевленных речами депутатов и готовых пожертвовать своими жизнями ради восстановления конституционного порядка в стране. Даже этот мизерный контингент (вокруг стояло до тысячи здоровых мужчин, которые так и не двинулись с места) привёл горожан в ликование. «Да здравствуют наши герои! Да здравствуют каработы!» – кричали им со всех сторон. Женщины взмахивали шарфами и чепцами, а у Марии от переизбытка чувств на глаза навернулись слёзы. Глядя на неё, прослезилась и Роза.
– Вы плачете, Корде? – спросил Петион, удивлённо поднимая брови. – Отчего же? Ах, кажется, я вас понимаю… Вам стало жаль этих цветущих, прекрасных юношей, ваших друзей и сверстников, которые теперь пойдут в пекло войны, и вероятно, – что делать, такова солдатская доля! – не все из них вернутся назад. Может быть, среди них есть и тот, который особенно дорог вашему сердцу? Да-да, я отлично понимаю вас…
– Ничего вы не понимаете, Петион, в моих слезах! – резко оборвала его Мария, и слёзы её мигом просохли. – Вы мерите всех женщин одной меркой, и все они для вас – легкомысленные ветреные существа, не мечтающие ни о чём другом, кроме плотских удовольствий.
– Это слёзы гордости за наших солдат, – пояснила Роза Фужеро.
Петион несказанно дивился, слушая юных провинциалок. Воображавший себя знатоком женской природы, кумиром столичных дам, очаровавшим саму принцессу Елизавету, он воспринял слёзы двух изнеженных барышень всё с той же хвалёной «проницательностью», какою отличался и в политике. Всё ещё отказываясь поверить, что его стрела пролетела мимо цели, он пытливо вопросил:
– Может, оно и так, но скажите-ка мне, положа руку на сердце: разве вам не было бы приятно, если бы они вовсе не уходили отсюда?
При этих словах Мария отвернулась от Петиона, не в силах более вынести вида его мясистого одутловатого лица, на котором играла самодовольная усмешка. До окончания парада она больше ни словом не перемолвилась с парижским «королём».
После того, как воинская колонна во главе с генералом Вимпфеном прошествовала к выходу из города (можно подумать, прямо в поход) и помост стал понемногу пустеть, Мария сухо поклонилась сановному благодетелю и дёрнула Розу за рукав, увлекая её за собою на лестницу. Последняя сопротивлялась и медлила, надеясь оказаться рядом с Барбару. Однако марселец продолжал о чём-то беседовать со своими коллегами-депутатами и, казалось, вовсе не замечал присутствия на «трибуне» двух девушек. Что же до Бугона-Лонгре, застрявшего внизу, то он был оттеснён спускающимися по лестнице представителями народа, так что подруги уже не встретили его на пути, о чём, впрочем, не очень сожалели.
– Ты такая храбрая! – сказала восхищённая Роза, когда они удалились от Гран-Кура на порядочное расстояние. – Так смело говорила с этим, в парике… Он даже оторопел. Правильно, так и надо. Я тебя поддерживаю. В самом деле: отчего столь пренебрежительное отношение к нашему полу? Кем нас считают? Мы и не девочки уже: тебе двадцать четыре, мне двадцать два. В таком возрасте мужчины уже командуют батальоном, а то и полком.
– Подожди немного, – молвила Мария приглушённым голосом. – Скоро они раскаются в своих сомнениях на наш счёт. – Её глаза устремились куда-то вдаль, и в них зажёгся какой-то странный огонёк, – Да, раскаются… Gladius, gladius exacutus est et limatus, ut caedat victimas exacutus est, ut splendeat limatus est![11 - «Меч, меч наострён и вычещен; наострён для того, чтобы больше заколать, вычещен, чтобы сверкал как молния» (лат.) – Иез 21:9–10.]
– Это по-латыни? – спросила Роза. – Из Цицерона? Звучит как-то угрожающе…
– Это из Библии.
– Из Библии?! О чём же это?
– Мне трудно перевести.
– Какая ты интересная! Помнишь то, что читали в монастыре…
– Нет, этого там не читали.
Донесение в Комитет общей безопасности от 8 июля
Город Кан, департамент Кальвадос, 8 июля 5-го года Свободы, 2-го года Республики единой и неделимой.
Петион, Салль, Бюзо и Барбару по очереди выступали в прошлую пятницу на собрании посланцев восьми департаментов Нормандии и Бретани. Они призывали уничтожить якобинцев, сокрушить Гору, разогнать Конвент и потопить в крови Парижский муниципалитет. В результате этих подстрекательских речей было постановлено создать особый Совет, который займётся формированием федералистской армии числом в десять или пятнадцать тысяч человек, чтобы идти походом на Париж. Командующим этой армией избран генерал Вимпфен. Вчера, в воскресенье, на Гран-Куре состоялся смотр собранных к этому времени сил – около шестисот солдат. Хотя Барбару, Бюзо, Гюаде и Петион опять держали подстрекательские речи, под их знамёна вступило только семнадцать добровольцев вместо ожидаемых многих сотен.
Однако мятежники всё ещё не теряют надежды собрать многочисленное войско. Ожидается прибытие трёх батальонов из Бретани. Передовому отряду, находящемуся в Эврё, состоящему из драгунов Ла-Манша и стрелков Эра, общим числом в четыре сотни сабель, отдан приказ начать движение на Париж по дороге через Пасси, Брекур и Мант.
Настоящее письмо доставит вам добрая гражданка, являющаяся истинной республиканкой.
Спасение и братство!
Гражданин П. Л.,
член Общества друзей Республики города Кана.
P.S. Представителей [народа], заключённых в Испанской гостинице, перевели в донжон городского замка и усилили охрану. Нет никакой возможности связаться с ними.
* * *
Пятый год Свободы… Ослепительное солнце сияло над Каном, щедро заливая светом его небольшие улицы, узкие переулки и крохотные дворики. Прошедший военный парад понемногу перерастал в общегородское празднество и народное гулянье. Были открыты все кабачки и закусочные, отовсюду неслись смех и веселье. Мужчины и женщины, взявшись за руки, отплясывали карманьолу. Давно уже Кан не испытывал такого приподнятого настроения. Сказать по правде, город привёл себя в более или менее благопристойный вид только с появлением парижских гостей. Шестнадцать членов Национального Конвента, хотя и беглых, – в заштатном городке это было совершенно небывалым событием (впору открывать маленький Конвент) – заставили канцев позабыть о своих внутренних склоках и почувствовать себя ответственными за судьбу всей страны. До приезда депутатов тут творилось бог весть что. Если рассказывать всё по порядку, получится история не менее бурная и не менее драматичная, чем громкие события в Париже.
Поначалу разбуянилась деревенская округа. Хотя нападения на помещичьи амбары и усадьбы происходили и раньше, но делали это не столько крестьяне, сколько бродячие шайки, внезапно выскакивающие из леса и скрывающиеся в нём вместе с награбленным добром. Теперь же к ним всё чаще стали присоединяться местные жители, деревенская голытьба, всякие оборванцы, гуё[12 - Гуё (gueux) – букв. «босяк (-и)», в годы Революции собирательный термин, обозначающий, с одной стороны, нищих, бродяг, людей низкого сословия, а с другой стороны – негодяев, смутьянов, бунтовщиков.]. Помещики яростно защищали своё имущество, и тогда их стали резать, а усадьбы жечь, – сперва как бы случайно, в пылу возмущения, а затем всё более целенаправленно и ожесточённо. Помещики бросали имения и вместе с семьями спасались в городах. За год с небольшим в Кан переселилось от трёхсот до четырёхсот дворянских семей, либо купивших жильё, либо разместившихся у своих родственников.
Впрочем, в городе тоже становилось неспокойно. В питейных заведениях собирались местные санкюлоты (в Нормандии их называли каработами), зрело недовольство, раздавались угрозы, и можно было не сомневаться, что рано или поздно бунтари перейдут от слов к делу. Расправы начались уже летом 89-го года. Хлеботорговец Пажоль был обвинён в том, что скупал повсюду хлеб и уничтожал его, чтобы обречь людей на голод. Сбежавшаяся голытьба взломала замки и обшарила амбары Пажоля в поисках горелого зерна, а его самого потащила на суд в муниципалитет. Два бравых каработа тянули верёвку, привязанную к шее перепуганного торговца, а бегущая справа и слева толпа награждала вредителя тумаками.
Счастливый господин Пажоль! – он отделался шестью месяцами тюрьмы и конфискацией имущества. В других городах богачей просто вешали. В Ренне при стечении народа на площади был забит до смерти майор королевской пехоты Бельзунс, дальний родственник настоятельницы монастыря Аббе-о-Дам, при котором воспитывалась Мария. Его тело разрубили на части, после чего реннские женщины, подёнщицы и прачки, насадили эти куски на веретена и торжественно носили по городу. «Женщины во сто крат более жестоки в своих ужасных увлечениях», – писал с горечью Бомарше, автор «Женитьбы Фигаро», после того, как к нему в дом, в Париже, нагрянула с обыском толпа революционных фурий, и он едва спасся чёрным ходом.
Итак, 89-й и 90-й года стали в Нормандии едва ли не самыми кровавыми. Революция ещё толком не вступила в провинцию, а жертвы её исчислялись уже сотнями. К своему счастью Мария Корде не застала этого всплеска насилия, поскольку до февраля 91-го года оставалась жить в пансионе при монастыре; затем, после его закрытия, провела некоторое время в отцовском поместье и появилась в Кане лишь в июне того года. Обо всех этих стихийных расправах она знала лишь понаслышке, по рассказам подруг и знакомых, и искренно разделяла их возмущение. Ей было очень обидно, что великие идеи Руссо и Рейналя о всеобщем равенстве и братстве так безбожно извращаются тёмными, необразованными и сомнительными личностями, которым почему-то всегда достаются первые роли в народном движении.
Революция вступила в Кан в виде трёхцветных знамён, красных фригийских колпаков, патриотических лозунгов и вороха хлёстких брошюр. Слово «аристократ» стало синонимом слову «кровопийца». Городской муниципалитет объявил себя Домом Коммуны, городская милиция – Национальной гвардией, а всё мужское население было приведено к присяге на верность Конституции. Город разбили на пять секций: Свободы, Гражданственности, Стойкости, Равенства и Единства. Почти все улицы были переименованы: улица Сен-Пьер стала улицей Революции, Темничная улица – улицей Свободной Нации, а улица Сен-Жан, на которой проживала Мария, сделалась улицей Равенства. На Королевской площади сбросили статую Людовика XV и посадили Древо Свободы, перед собором Сен-Пьер соорудили Алтарь Отечества, а в каждом учреждении установили бюсты Катона и Брута (позже к ним присоединился бюст Лепелетье).
В конфискованной церкви Сен-Жюльен открылось Общество друзей Конституции, иначе говоря, местный Якобинский клуб, уменьшенная копия знаменитого парижского клуба. Вступительный взнос составлял шесть ливров; женщины не принимались, но им было позволено наблюдать с церковных хоров за шумными сборищами своих революционных мужей и братьев, а иногда даже участвовать в прениях.
В театре шли трагедии: «Коварство бывших королей», «Преступления феодализма», «Жертвы монастырей», комедии: «Королевская оргия или пирушка Австриячки»[13 - Имеется в виду королева Мария Антуанетта, которая была австрийской принцессой.], «Тайные утехи епископов», «Бракосочетание Папы». То, чему вчера ещё поклонялись и перед чем благоговели, было подвергнуто беспощадному бичеванию.
Представления чередовались с выборами: на оглушительных, орущих до хрипа собраниях избирали то заседателей совета Коммуны, то депутатов Законодательного собрания, то членов департаментской директории, окружного и городского суда, то, наконец, попечителей сиротского приюта.
Число торжеств превысило всякие разумные пределы. Помимо общенациональных ежегодных праздников вроде 14 июля[14 - Праздник в честь падения Бастилии 14 июля 1789 г., называвшийся в Париже сначала «праздником копий», а затем праздником Федерации.] и 10 августа[15 - 10 августа 1792 г. был взят штурмом королевский дворец Тюильри в Париже.] департаментские власти учредили собственные праздники и памятные дни; так же поступала городская Коммуна и почти каждая секция. Еженедельно устраивались парадные шествия с барабанным боем, сверкали фейерверки, зажигались бумажные лампионы, мужчины и женщины прогуливались, украшенные трёхцветными республиканскими лентами, танцевали, распевали Карманьолу и заключали друг друга в патриотические объятия (l'accolade patriotique).
Но все эти внешние атрибуты народного счастья не могли ни смягчить людские сердца, ни уменьшить насилия, пустившего в обществе глубокие и прочные корни. 23 августа 91-го года Якобинский клуб Кана опубликовал полный список переехавших в город аристократов, которые в опасении за свою жизнь покинули окрестные поместья. Список сопровождался точным указанием их места жительства и размеров годового дохода. Тем самым была указана цель и дан сигнал к травле.
С тех пор какие только обвинения не звучали в адрес титулованных особ! Это они, подлые кровопийцы и извечные враги народа вызвали дороговизну продуктов, из-за них произошло несколько пожаров, из-за них рухнул во время праздника крытый павильон и побил людей, потому что были подточены его опоры. А когда в городе внезапно распространилась оспа, уже никто не сомневался, что её нарочно занесли вредоносные аристократы. Не проходило недели, чтобы ретивые клубисты не возбуждали судебное преследование против какого-нибудь дворянина, благо городской муниципалитет, то бишь Коммуна, была в их руках.
Преследуемые, в свою очередь, искали поддержки в окружной администрации и в директории департамента, где они имели немало сочувствующих. Бывшие маркизы, бароны и шевалье инстинктивно потянулись друг к другу; у них даже образовалось нечто вроде своего клуба с членскими взносами, печатным органом и вооружённой охраной. На заседаниях этого общества поговаривали, что надо приложить все усилия, чтобы провести в Коммуну своих людей и что прежнее наплевательское отношение к выборам в местные органы власти было непростительной ошибкой. Известие об этом особенно встревожило клубистов: они поняли, что противник не думает капитулировать и даже напротив, готовится перейти в наступление. К ноябрю 91-го года положение обострилось настолько, что открытое столкновение стало неминуемым.
Поводом к нему послужило письмо тогдашнего министра внутренних дел Делесара, направленного городской Коммуне, в котором требовалось неукоснительно соблюдать принцип свободы культов и не чинить никаких притеснений неприсягнувшим священникам[16 - Имеется в виду священники, отказавшиеся присягать гражданской Конституции духовенства, принятой Учредительным собранием 24 августа 1790 г. и одобренной королём.]. К этому времени большинство непокорных кюре было уже изгнано из своих приходов, и на их месте служили мессу сознательные пастыри, признавшие Революцию.
Письмо Делесара ободрило всех «бывших». На другой день неприсягнувший кюре Бюнель в сопровождении своих каноников, певчих и большой толпы аристократов явился в отобранную у него церковь Сен-Жан, выпроводил из неё конституционного «самозванца» и отслужил торжественную мессу с пением «Te Deum»[17 - «Te Deum laudamus» («Тебя, Боже, хвалим») – церковный католический гимн, называемый также гимном св. Амвросия, исполняющийся в конце заутрени в торжественных случаях. Во время Революции исполнение «Te Deum», по крайней мере, в войсках, было официально заменено исполнением «Марсельезы».]. Со всех концов города к церкви потянулись верующие, обрадованные возвращением любимого пастыря. Клубисты тут же забили тревогу; не мешкая, собрался генеральный совет Коммуны, в церковь были посланы муниципальные офицеры, следом стали подтягиваться части национальной гвардии. Обстановка накалялась с каждой минутой. Возникшая у дверей церкви перепалка между патриотами и аристократами быстро переросла в кулачный бой, закончившийся перестрелкой на близлежащих улицах и на площади Сен-Совер. С обеих сторон в ход пошли сабли, пистолеты и фузеи. Четверо клубистов получили тяжёлые ранения. Справиться с аристократами смогла лишь подоспевшая национальная гвардия.
Коммуна не сомневалась, что имеет дело с контрреволюционным мятежом. Немедленно начались аресты руководителей путча и просто подозрительных лиц. Облава продолжалась до глубокого вечера; было схвачено до двухсот человек, которых заперли в городской цитадели. Клубисты вкушали победу, но для полного удовлетворения им не хватало лавров спасителей Свободы. Они искали настоящие улики. Когда у одного из задержанных обнаружили письмо под названием «проект объединения (projet de rassemblement)», победители исполнились истинным вдохновением: ещё бы, раскрыт злодейский заговор, направленный на истребление народной власти! Работа Коммуны закипела с новой силой. И не беда, что в пылу следствия главою заговорщиков записали бывшего маркиза, возраст которого перевалил за 77 лет и который едва шевелил языком; главное – теперь есть о чём говорить народу и рапортовать в Париж.
Впрочем, столица не торопилась поздравлять провинциальных героев. Департаментские власти доложили Законодательному собранию иную версию происшедшего, а генеральный прокурор-синдик Кальвадоса мсье Байё прямо обвинил Коммуну Кана в раздувании ажиотажа и превышении своих полномочий. Для обеспечения порядка в Кан были направлены линейные войска, не подчинявшиеся местной Коммуне. Клубисты восприняли это как тяжкое оскорбление, и хотя затем Законодательное собрание декретировало предание суду 84-х арестованных ими заговорщиков, включая и 77-летнего маркиза д'Эрици, обида на парижские власти надолго запала в душу канских патриотов. Не потому ли через полтора года они поддержали бежавших из Парижа депутатов и оказались в авангарде федералистского движения?
Как бы то ни было, первая победа, пусть и не полная, была ими всё же одержана. Город Кан очистился от проклятых аристократов, а в церкви Сен-Жан вновь воцарился конституционный священник (Мария Корде жила напротив этой церкви и прекрасно видела всё происходившее). Теперь на очереди была департаментская администрация, всё это время тайно интриговавшая против истинных патриотов и жаловавшаяся на них в Париж. Революционеры готовились к новым боям.
Из всех народных обществ в лидеры выбились каработы, – лихие парни с городских окраин, гудевшие ещё вчера в кабаках и трактирах, а ныне заседающие в большом зале с колоннами, имеющие собственную форму, оружие и знаки отличия. На их знамени было написано: «Исполнение закона или…», и ниже красовалось изображение человеческого черепа со скрещёнными костями в обрамлении языков пламени. «…Или смерть», – хотели сказать отважные каработы, подчёркивая свой патриотизм, но на деле получилось нечто пиратское.