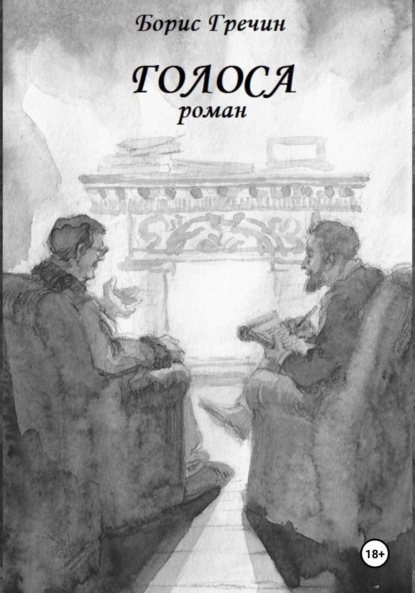По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голоса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Завидовали?
– Ну а как же? Девушка старше их всего только на четыре года, а кого-то и всего только на три, но двумя академическими ступенями выше.
– Позвольте, как же на три? Если они были на четвёртом курсе бакалавриата, а она на втором году аспирантуры… – принялся я высчитывать.
– Да очень просто: Марк пришёл в вуз после армии, – пояснил историк. – Ада была старше брата на год, а училась с ним в одной группе потому, что ей пришлось пропустить год в школе по серьёзной болезни почек. Что-то болезненное выдавало даже её лицо, если присмотреться к нему: некое превозмогание себя… А Альфред, например, на третьем курсе брал годичный академический отпуск.
– Тоже по болезни?
– Нет, представьте себе: он самостоятельно вступил в переписку с одним немецким фондом – имени Роберта Боша, кажется, – стал его стипендиатом и выиграл годичное бесплатное обучение в Германии в некоем колледже или семинарии, что-то, связанное с исторической юриспруденцией или, наоборот, с правовыми аспектами истории. Это, как он пояснял, является для него важной фазой его научного роста.
– Какой целеустремлённый молодой человек… то есть, виноват, дяденька! – поразился я.
– Вот-вот! – подхватил историк. – Этим двум «дяденькам» Настя казалась, наверное, их ровесницей, незаслуженно вставшей за лекторскую кафедру.
– Вы позволите ещё вопрос? Коль скоро ваша группа перестала вас слушать и начала «самоуправляться», вы, значит, отказались от того, чтобы быть их учителем, и остались только кем-то вроде старшего товарища?
– Совершенно верно, – подтвердил Могилёв, – да я ведь уже говорил об этом. Вас, похоже, берёт сомнение по поводу того, насколько уместно педагогу в отношении студента становиться только более опытным другом? Это справедливое сомнение! Но тут и обстоятельства были особыми: речь шла о студентах четвёртого курса в самом конце их последнего семестра в вузе. Большинство из них вовсе не собирались ни в какую магистратуру – никто, кроме Штейнбреннера да, быть может, Ивана Сухарева. Потом, они по сути и перестали быть студентами, как только мы вовлекли их в этот проект! Они стали участниками лаборатории, которыми я уже не мог произвольно распоряжаться, повелевая одно – делать, а другое – отбрасывать. Верней, мог бы, но при такой моей манере руководства их интерес к проекту сразу бы сошёл на нет, они тогда разбежались бы под разными благовидными предлогами, наше начинание мирно скончалось бы естественным путём – и мне пришлось бы кусать локти. Наконец, вы не всё знаете…
– Виноват! – покаялся я. – Само собой, я нечаянно забегаю вперёд – из естественного любопытства.
[6]
– Вторым занятием в понедельник у моих студентов была «История цивилизаций», тот единственный предмет, с которого мне не удалось их снять, – продолжил Могилёв. – Они собрались и ушли с грустными шуточками. Я тоже отпускал их с огорчением и своего рода ревностью. А отпустив, пошёл на приём к Сергею Карловичу Яблонскому, декану исторического факультета.
– Для чего?
– Ну как же! Севостьянова могла уже успеть пожаловаться на меня профессору Балакиреву, своему начальнику, а тот – декану. Поэтому я всего лишь пытался застраховать себя от возможных неприятностей, ведь повинную голову, как известно, меч не сечёт.
Мне пришлось подождать, но наконец Яблонский меня принял со своей обычной предупредительностью. Тут пара штрихов к его портрету, если позволите. Сергей Карлович, всегда прямой как струнка, всегда вежливый, всегда тщательно выбритый, неизменно аккуратный в одежде и причёске, чем-то напоминал пожилого офицера – выпускника Академии Генштаба. Пожилого, потому что ему за год до того исполнилось шестьдесят.
Декан выслушал мою историю внимательно и, так сказать, сочувственно. Нет, он ничего не знал, ему никто ничего не рассказывал, верней, донесли только некий дикий слух о том, что доцент Могилёв в пьяном виде звонит своим коллегам со смежных кафедр и требует для себя особых полномочий.
«Вот видите, теперь всё прояснилось, – подытожил он мой рассказ. – А то, признаться… Вы затеяли очень интересное дело, Андрей Михайлович! Даже завидки берут: будь я помоложе лет на тридцать, охотно бы к вам присоединился. Жаль только одного! А именно того, что вас, уважаемый Андрей Михайлович, против вашей воли и мимо вашего осознания, кажется, втянули в не очень красивую интригу…»
«В интригу? – испугался я. – Я не понимаю, в какую…»
«Вы и не обязаны, мой милый! Это не ваша профессия. Но я поясню, извольте. Если вы только обещаете молчать обо всём до момента моего ухода с должности. После вы свободны от обещания. Правда, и сами тогда не захотите болтать…»
Я обещал.
«Я достиг, как вы знаете, пенсионного возраста, – начал Яблонский. – Мой пятилетний трудовой договор истекает в июне. Контракты с руководителями моего возраста при их возобновлении заключаются только сроком на год, да и то, предпочитают искать коллег помоложе. Та ещё глупость, но речь сейчас не об этом. Владимир Викторович, как вы тоже знаете, наметил себе сесть в моё кресло».
«Именно в ваше? – усомнился я. – Говорили что-то про секретаря Учёного совета…»
«Да, да, этот вариант тоже рассматривают – как утешительный приз проигравшему, знаете ли. Потому что декан на своём факультете – царь и бог, а за секретарём Учёного совета, хоть должность и высокая, общевузовское начальство ближе и следит за ним пристальнее. Проигравшим может стать или Бугорин, или Дмитрий Павлович Балакирев – то есть это они оба так считают. Если сейчас доцент с кафедры Бугорина выигрывает федеральный грант, Владимир Викторович получает благодарственное письмо, и это склоняет чашу весов в его пользу. То есть, повторюсь, это он сам так думает…»
«А в чём он ошибается?»
«В том, что контракт со мной могут переподписать! Я за своё место не держусь, уйду даже с удовольствием, но имею опыт, вникаю в дело, не рублю сплеча, не плету интриг, не проявляю барства, и по всему этому – начальству может быть проще работать со мной, чем с Владимиром Викторовичем, который резковат, чего греха таить. Оттого здравый смысл может и победить требования мёртвой буквы. Тут – бабушка надвое сказала. А теперь поразмыслите сами, как удачно всё складывается для вашего непосредственного начальника! Вы успешно завершаете свой проект – и у него есть все основания подвинуть меня, старика, ведь это под его руководством, не под моим, молодые педагоги выигрывают президентские гранты. Не обижайтесь на “молодого”, Андрей Михайлович дорогой, это – относительное определение. С другой стороны, может у вашей лаборатории пойти что-то не так, даже со скандальным оттенком “не так”. Десять честолюбивых молодых людей, знаете ли, десять юных дарований в одном пространстве – вдруг им станет тесно?»
«Не дай Бог, Сергей Карлович!»
«Не дай, не дай, конечно! – согласился он. – Но вдруг? Или вот девочки. Сколько их в сто сорок первой группе, три? Ах, четыре? Примут близко к сердцу эти переживания вековой давности и – эмоциональные выплески, проблемы со здоровьем. А родители тут как тут. В наши дни некоторые студенты и на четвёртом курсе живут с родителями, вы представляете?»
Я промолчал. Что там студенты! Не только студенты, но и некоторые преподаватели, давно разменявшие четвёртый десяток.
«Родители – жалобу, и получаем мы, милостивый государь, скандальную известность в местном масштабе, – продолжал декан. – А кто виноват?»
«Бугорин? – предположил я.
«А вот и не угадали! Не Бугорин, а ваш покорный».
«Почему?»
«Ну, как же вам не ясно, Андрей Михайлович? Потому что такое исследование, ради которого студенты снимаются со всех занятий по всем предметам, – это общефакультетское дело. И вовсе зря вы добивались от Владимира Викторовича распоряжения об организации лаборатории. Он бы вам его не дал просто потому, что не был полномочен». (Я покаянно покивал: да, это я мог бы и сам сообразить.) «Хотя не поэтому не дал, конечно, а чтобы вы не получили оружия против него же. Итак, заведующий кафедрой – ни сном ни духом. Напротив, выяснится по бумагам, что как раз в эти дни он с сотрудниками проводил инструктаж о том, чтобы всемерно укреплять, так сказать, учебную дисциплину, пристально следить за пропусками занятий и прочее. Вот увидите ещё. А декан знал о творящемся безобразии – и не принял мер. Или даже вовсе не знал, что происходит на вверенном ему факультете, и неизвестно, что хуже. Разве не надо его снять с должности, если он такой безалаберный? Тем более что и снимать не нужно: достаточно просто не подписать новый трудовой контракт. Понимаете теперь, почему для Владимира Викторовича оба варианта выигрышны, и даже ему, пожалуй, выгоднее, чтобы вы провалились? Да вы простите меня, идею про лабораторию – это не он вам нашептал?»
«Что вы, Сергей Карлович! – запротестовал я. – Мне само всё пришло в голову!»
«Но ведь вас, мой дорогой, поставили в такие условия, что вам и не могло ничего другого прийти в голову? О, это высший пилотаж…»
Мы несколько секунд помолчали.
«Мне очень жаль, Сергей Карлович, – пробормотал я. – То есть если всё и правда так. Очень жаль, что и сам, похоже, влип, и вас подвожу под монастырь».
«Да Господь с вами! – отозвался Яблонский. – Я-то буду возиться с внуками, писать этюды для души. А жаль вас, мой милый, молодую энергию и научный энтузиазм которого используют для таких пошлых целей. И ещё жаль того, что ваш заведующий кафедрой вами пожертвует без всяких сентиментальных чувств. Случись что, и строгий выговор – это для вас самое меньшее. А ведь вы не останетесь после такого выговора?»
Я, кивнув, продолжал сидеть, глядел перед собой в одну точку и пытался сообразить: что же надо сказать? Ничего нельзя было сказать: надо было благодарить за преподанный урок, извиняться и уходить.
Яблонский снова заговорил:
«Размышляю вот, Андрей Михайлович… Размышляю: не подписать ли мне общефакультетское распоряжение о создании вашей лаборатории?»
«Зачем? – изумился я. – Это укрепит мои позиции, конечно, и я буду благодарен, но ведь для вас – лишняя ответственность и лишний риск?»
«Бежать ответственности некрасиво, мой дорогой, – сентенциозно заметил декан. – А про риск – кто знает? Я ведь в своём приказе ответственность за его исполнение и взаимодействие структурных подразделений между собой возложу на вашего непосредственного начальника. А? Ха-ха! То есть в плохом случае, в случае скандала, виноват окажется в первую очередь он. Я тоже, но он – больше. А если всё пойдёт гладко, то я окажусь причастным к вашим общероссийским лаврам, потому что я же и распорядился. Считаете, дурно с моей стороны?»
«Нет, не считаю, – искренне ответил я. – Восхищаюсь вашей…»
«…Административной смекалкой? – догадался декан. – Так ведь, мой хороший, не первый год сижу в своём кресле… Вот что: я вам пока ничего не буду обещать. Надо мне сначала успокоить Ирину Олеговну с кафедры всеобщей истории, которая сегодня утром уже донесла, что вы ей звонили в нетрезвом виде и стучали кулаком по столу. Зайдите ко мне завтра примерно в то же время, договорились? Завтра сумею вам сказать что-то более определённое. Грех, Андрей Михайлович, просто грех – на корню рубить научное творчество и лишать энтузиазма тех, кто движет его вперёд! Это – моё главное соображение, а вовсе не бюрократические мысли».
– Какой славный у вас был декан! – заметил я рассказчику на этом месте. – И как это глупо – увольнять таких людей просто по достижении ими пенсионного возраста, руководствуясь хоть законом, хоть ведомственной инструкцией! Человек ради закона, или закон ради человека? Впрочем, извините, – спохватился я. – Это – такие самоочевидные банальности…
Андрей Михайлович молча кивнул.
[7]
– После обеда, – продолжал Могилёв, – работа группы возобновилась. Первая очередь выходила Марте Камышовой. Я деликатно спросил её, готова ли она сделать доклад по своему персонажу сегодня. Марта лаконично ответила, что готова, и мы приступили к слушанию её доклада без всяких предисловий.