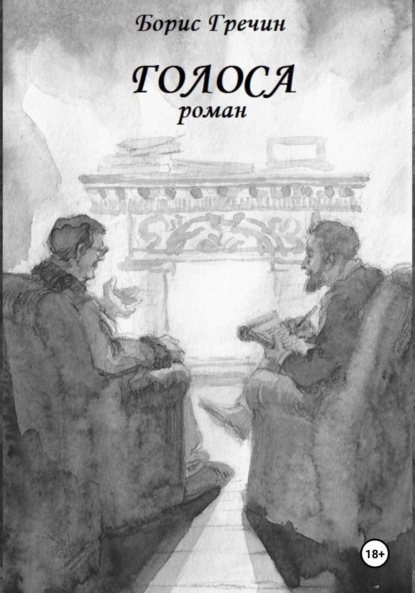По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голоса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Господи, какой Бах? – осенило меня вдруг. – Это же Моцарт, Фантазия ре-минор!
Могилёв негромко удовлетворённо рассмеялся, кивая.
– А ведь так сразу и не скажешь, верно? – заметил он.
– Ещё бы: это насквозь «баховский» Моцарт, – подтвердил я.
– Мне было интересно, – пояснил Андрей Михайлович, одновременно немного убавив звук и превратив его в фоновый, – насколько манера исполнителя сумеет ввести вас в заблуждение. А ведь, строго говоря, он ничего не изменил в нотном тексте! Только замедлил темп, как бы уравновешивая его, да ещё эти staccato. Знаете, в одном из интервью Гульд сказал, кажется, что staccato – естественное, натуральное, первичное состояние музыки. А паузы, какие роскошные паузы! Специально посчитал: одна из пауз составляет здесь восемь секунд. Но, собственно, у меня был свой умысел! Я должен сказать, что это исполнение я предпочитаю всем прочим. И ведь оно имеет право быть, оно полностью оправдано внутри себя, вы согласны? А между тем это же не Моцарт! По крайней мере, не совсем Моцарт: это не вполне соответствует его подвижному и живому характеру. Скажем так: это – глубоко субъективный Моцарт, не вполне исторический. Но я его принимаю и, больше того, снимаю перед ним шляпу. Субъективность при прочтении всем известных вещей имеет свой смысл и своё место, если только она относится к изначальному материалу с должным уважением. Возможно, мы были не самыми подходящими человеческими инструментами для персонажей, в характер которых решили погрузиться. Но что такое подходящий инструмент? Вот ещё позвольте-ка… – он нажал новую кнопку на пульте дистанционного управления, и библиотека наполнилась несомненно баховской мелодией, но в несколько причудливом звучании.
– Ну, это Бах, что-нибудь из ХТК
или «Искусства фуги», – отозвался я. – Второй раз вы меня не обманете.
– Даже и не собирался! Верно, это Контрапункт восемь из «Искусства фуги», – подтвердил мой собеседник. – А инструмент?
– Фисгармония? – предположил я.
– Нет.
– Что-то в любом случае духовое: шарманка? Механическое духовое пианино? – продолжал я догадываться.
– Нет, да нет же! Это саксофон. Да, представьте себе: берлинский квартет из четырёх саксофонистов. А ведь звучит, правда? То есть тоже звучит?
– Да уж, – пробормотал автор. – Не думал, что Бах может быть таким чувственным: это ведь почти неприлично… Я только одного не понимаю: зачем вы продолжаете меня убеждать в оправданности вашего тогдашнего метода? Я уже его признаю, я уже верю, я бы не сидел здесь иначе!
– Затем, дорогой коллега, что я сам верю не до конца, – пояснил Могилёв. – Считайте, что я продолжаю убеждать сам себя. Занимайся я этим проектом сейчас, я, возможно, всё сделал бы по-другому. Или не всё – или, может быть, я ничего бы не менял. Проблема ещё в том, что мы не можем произвольно заниматься чем угодно в любое время жизни. Разный возраст – это разный опыт, но и разная свежесть и острота ума, разная мера жизненных сил, разные возможности, наконец.
– А я вот поражаюсь широте ваших интересов, в том числе музыкальной, – заметил я. – Не лень вам было слушать интервью Гульда! У меня бы точно не хватило терпения.
– У библиотекаря бывает много свободного времени… Ну что, приступим?
– Да, конечно! – подтвердил я. – Знаете, у меня с собой запись нашей первой беседы. Вы не хотите на неё взглянуть?
– Само собой! Даже с удовольствием.
[2]
Андрей Михайлович действительно просмотрел текст первой главы, быстро, но внимательно.
– Всё отлично, – подытожил он. – Есть, конечно, пара вещей, которые можно изменить.
– А именно?
– Во-первых, то, как вы изображаете вашего покорного слугу: как некоего усовершенствовавшегося в мудрости патриарха. Это совсем зря!
– Мне так не показалось, – возразил я, – то есть не показалось, что я вас так изображаю. А если и так, считайте, что это моё прочтение и мои собственные глаза, через которые я вас вижу. – Собеседник, слегка улыбаясь, развёл руками, как бы показывая, что бессилен перед этим аргументом. – А вторая вещь?
– Представьте себе, это пунктуация!
– Да? – растерялся я.
– Да: вы так робко держитесь за правила, обозначая прямую речь внутри прямой речи кавычками.
– А как ещё можно?
– Дайте её мелким шрифтом!
– Я подумаю… – уклонился я от обещания.
– И кстати, почему бы вам не вставлять в ваш текст отрывки из «Голосов»? – предложил Андрей Михайлович. – Вот, например, уже в первую главу просится список основных источников.
– Я невольно улыбнулся, и эта улыбка не укрылась от внимания собеседника, который сразу отреагировал: – Нет-нет, не настаиваю! Само собой, мы, историки, готовы ради большей добросовестности растоптать любую художественность, и я понимаю эту вашу улыбку.
Я обещал подумать, и с благодарностью принял его предложение цитировать текст его сборника.
– Но не томите меня, в конце концов! – прибавил я с шутливой экспрессией. – Ваша аспирантка согласилась быть её величеством. А что было дальше?
[3]
– А дальше я провёл достаточно скучные выходные, в которых единственным цветным пятном, или, вернее, кляксой стали мои звонки педагогам, – приступил к рассказу историк.
– Почему кляксой?
– Ну, я со всеми договорился без труда, кроме «Цивилизации» – «Истории цивилизации», то есть, – но вот с этим предметом вышла, действительно, клякса!
Цивилизацию у четвёртого курса вела одна мадам с какой-то заурядной фамилией – Смирнова, что ли, или Сидорова… Севостьянова, вспомнил! Но имя и отчество у неё были роскошные: Ирина Олеговна.
Я позвонил ей вечером воскресенья, извинился за беспокойство, объяснил суть проблемы, вежливо попросил о возможности зачёта «автоматом» для группы сто сорок один – и наткнулся вот на какой вопрос:
«А вы считаете “Историю цивилизаций” маловажным предметом, Андрей Михайлович?»
Я что-то залепетал о том, что, конечно, не считаю, а эта Севостьянова не унималась:
«Значит, то, как наша с вами цивилизация вписана в общемировой контекст, кем являются русские для всего мира, как мы выглядим в чужих глазах, – это всё тьфу, это даже внимания не стоит, если можно целую группу снять с занятий?»
Я тут заикнулся про письменные конспекты – и, осмелев, добавил, что грант президентский, что можно, в виде исключения, и пойти навстречу… В ответ мне сказали:
«А что, предполагается именно студенческая работа?» (Тут она угадала, это было уязвимое место моего проекта.) «Или вы снова, вы как кафедра, имею в виду, снова на дармовщинку используете общефакультетские ресурсы? Что же мы не догадались привлечь студентов к работам по кафедре? Стены там покрасить… Может быть, потому что по-другому представляем себе предназначение вуза и задачи преподавателей? Вы осознаёте, какое впечатление производите? Ваша кафедра, Андрей Михайлович, не сильно ли перетянула одеяло на себя?»
– «Ты, пацанчик, из какого района и не попутал ли рамсы?» – пробормотал я вполголоса. Могилёв сдержанно усмехнулся:
– Да, именно так это и звучало, – подтвердил он. – Мы, образованные люди, только и отличаемся тем, что научились облекать наши хамские, по сути, выпады в псевдокультурную форму. При чём здесь была покраска стен? И я только собирался сказать, что сам бы не затруднился освободить другую группу ради участия в похожем проекте, если бы их кафедра попросила об этом, как Севостьянова, если я только не ошибся с фамилией, мне заявила: она будет теперь с особым, пристальным вниманием следить за посещением её занятий моими студентами, и до сведения профессора Балакирева, её начальника, она мой бесстыдный запрос тоже доведёт. Ну, что оставалось делать? Сказать «всего хорошего» и положить трубку.
Собственно, с этого огорчения я и начал в понедельник, объявив, что на свои просьбы освободить творческую группу от занятий и сдачи зачётов получил три «да» и одно «нет», однако последнее «нет» – громкое и несколько зловредное.
Мои юные коллеги повесили носы, и некоторое время мы грустно молчали, пока Марк не решил меня ободрить:
«Андрей Михайлович, что там, ладно! Вы сделали, что могли. “Цивилизаций” осталось две пары».