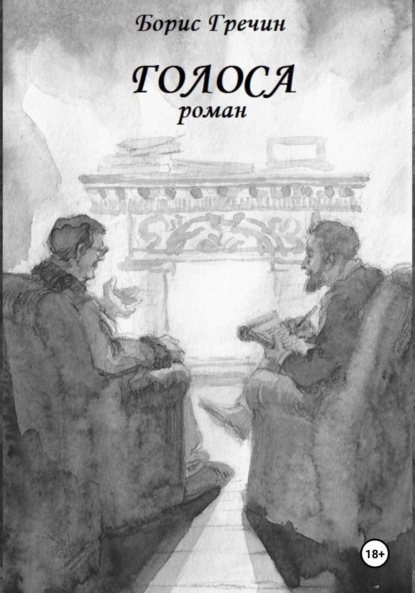По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Голоса
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«…Но я обещаю все твои мысли или тексты включить в сборник», – закончил я.
«И не только в сборник, а я хочу, чтобы вы зачитывали их вслух в вашей лаборатории! – потребовала Настя. – Я хочу быть частью коллектива, насколько у меня это получится! Извините, пожалуйста, я много прошу, да? Но я ведь вас немного разгружу от работы в апреле, поэтому у меня всё-таки есть небольшое право… Дайте мне, пожалуйста, список тех, кого уже взяли!»
Я дал ей список предварительного распределения исторических персонажей, записанный в свой учительский ежедневник. Настя сфотографировала список на телефон и, вернув мне ежедневник, уставилась на фотографию, нахмурив брови. Коротко усмехнулась:
«Лёша Орешкин, значит, будет царём и страстотерпцем?»
«Но кто же лучше него подходит? Ты на меня не сердись, Настя, пожалуйста», – попросил я.
«И вы на меня тоже. Не знаю сама, что на меня нашло… но для меня это важно! Я подумаю до конца выходных, Андрей Михайлович, можно? – Настя бросила взгляд на наши кафедральные часы и спохватилась: – Ой, как уже поздно! Побегу домой – простите!»
[19]
Тут мой рассказчик сам бросил взгляд на часы и спохватился в свою очередь:
– А ведь и правда поздно! Боюсь, я вас задерживаю и утомил.
– Я бы оставался и дольше, но гость должен и меру знать, – согласился я. – А между тем мы только начали!
– Моя жена гостит у своих родителей и вернётся что-то через неделю, – ответил Могилёв. – Я буду очень рад видеть вас у себя по вечерам, хоть даже каждый вечер, если только у вас хватит терпения добраться до конца моей истории.
– Безусловно, хватит, но я буду бессовестно злоупотреблять вашим временем, – заметил я.
– Мне несложно им поделиться, тем более что вы дали мне сегодня возможность понять, как я истосковался по слушателям. Так что, до завтра?
Мы обменялись телефонами. Андрей Михайлович вызвался проводить меня до автобусной остановки. По пути к ней мы некоторое время молчали, пока он не заговорил:
– Вам знакомы стихотворные строки, которые один современный автор приписывает нашему последнему Государю?
– А разве тот писал стихи? – поразился я.
– Нет, это литературная мистификация, конечно. Хотя… Вообще, в самом слове «мистификация» уже содержится нечто ненадёжное и не отвечающее сути дела. Кутузов в «Войне и мире», к примеру, разговаривает с Андреем Болконским, воображаемым существом, заметьте, если быть столь же дотошным, как мой бывший студент Штейнбреннер. Болконского, каким его увидел Толстой, в отечественной истории нет. Пётр Михайлович Волконский, через «В», был хорошим генералом, отличным штабистом, но, думаю, совсем не тем интересным и загадочным мужчиной, который вскружил голову Наташе. Значит ли это, что весь текст романа, связанный с Кутузовым, является мистификацией? А сам князь Андрей, про которого уже целые поколения школьников написали свои сочинения? Болконского нет, но вот эти сочинения – часть нашей истории. Поэтому что на самом деле является правдой?
– Вы меня убедили, – согласился я.
– А я не убеждал! Я сеял сомнения.
– Тогда посеяли их. Так что за стихи?
– Всего шесть строчек. Вот они.
In the midst of this stillness and sorrow,
In these days of distrust
maybe all can be changed—who can tell?
Who can tell what will come
to replace our visions tomorrow
And to judge our past?
– отчётливо продекламировал Андрей Михайлович.
– Чуть странно, что Государь говорил по-английски, вы не находите? – усомнился я.
– Да нет, напротив, для него и его супруги это был язык повседневного общения, не только письменного, но и устного, как об этом свидетельствует Генбури-Уильямс, – возразил Могилёв. – Но я, собственно, не про язык. Один из моих студентов, тогдашних, обратил моё внимание на эти шесть строчек и особенно на третью. Он был убеждён, что всё действительно может ещё поменяться.
– Исторически? – поразился я. – Мы заснём – и проснёмся в Царской России или Советском Союзе?
– Или в так называемом Российском государстве Колчака. Н-нет, не исторически, хотя затрудняюсь сказать, что именно он имел в виду. Мистически, скорее.
– Та область, в которой я чувствую себя совершенно беспомощным, – признался я.
– Да вот и я тоже, – откликнулся Могилёв, – даром что десять лет своей жизни был православным монахом. Но кто в ней не беспомощен?
[20]
В автобусе по пути домой я написал и отправил моему новому знакомому короткий текст следующего содержания.
Андрей Михайлович, Вы настоящая Шехерезада! Я теперь не усну, пока Вы не скажете, кого выбрала ваша аспирантка.
Уже отправив, я пожалел о своём суетном и не очень важном вопросе. Но ответ не заставил себя долго ждать.
Я не рассказал? Извините. Она прислала мне сообщение тем же вечером, такое забавное, что я его сохранил. Если потерпите минутку, то найду его и перешлю Вам.
Через минуту на мой телефон пришло:
Я буду Её Императорским Величеством Александрой Фёдоровной.
Глава 2
[1]
– Вы не против начать с музыки? – озадачил меня Могилёв, когда я вошёл в его кабинет.
Я подтвердил, что не против, хотя вопрос и застал меня несколько врасплох. Андрей Михайлович, кивнув, нажал на кнопку пульта дистанционного управления от небольшого музыкального центра, который стоял на полке его библиотеки (я в прошлый раз и не обратил на него внимания).
Отчётливые, чистые, несколько отрывистые фортепианные ноты, похожие на падающие жемчужинки. Характерное «мычание» исполнителя на заднем фоне.
– Это Гленн Гульд, – сразу озвучил я свою догадку.
– Да, конечно, Гульд, – откликнулся историк. – Но кто композитор?
– Бах? – неуверенно предположил я, прислушиваясь к этим чистым восходяще-нисходящим, почти математическим линиям. – Э-э-э… Куперен?
Андрей Михайлович поджал губы несколько юмористически, ничего не отвечая. Ещё некоторое время мы продолжили слушать, дождавшись выразительной паузы, такой долгой, что она показалась мне концом произведения.