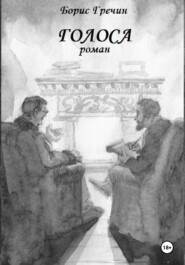По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русское зазеркалье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В двух вещах: вежливости и дистанции.
Новый учитель проявлял неизменную вежливость, скорее дружелюбную, чем холодную. Он почти никогда не обращался к нам ни с какими эмоциональными монологами, особенно касающимися нашей успеваемости, и никогда не использовал классических «учительских» фраз в духе «Вы худший класс в моей жизни», «Вы болото» и т. п. или их английских аналогов. (Как, кстати, всё это сказать по-английски? Возможно, никак.) Наверное, учителя-мужчины вообще используют такие фразы гораздо реже, чем их коллеги-женщины. Он недрогнувшей рукой ставил «двойки», в том числе в журнал – всегда ручкой, никогда карандашом, – и сразу после этого считал, что вопрос исчерпан и не требует морализаторства по своему поводу; более того, он иногда даже утешал какую-нибудь чувствительную девочку, которая при этом начинала плакать:
– Catherine dear, why weeping? A ‘F’ doesn’t make you a bad person.
Впрочем, если Catherine dear всё так и не могла успокоиться, он просил её выйти в коридор, там проплакаться и после вернуться к занятию – или, если угодно, не возвращаться, но только не сосредотачивать на себе излишнее внимание.
На самом первом уроке, в том самом первом трёхминутном монологе, он сказал:
– You see, I don’t think I must be emotional about your academic results. I respect your right not to be good at English and not to be interested in my subject.
И не единожды после он говорил нам:
– Grading you is a part of my job, and I do try to do it a responsible manner, but it is not your grades that are really important. In a year or two, you won’t even remember them. Do you get it? Such things as life and death, love and hatred, honesty and betrayal of trust are important. Your grades are not.
Это не вполне укладывалось в нашей голове, потому что к такому подходу мы не привыкли. Мы привыкли к тому, что зрелые учителя пенсионного и предпенсионного возраста, явно профессиональные в своём предмете и ремесле, ругали нас за невыученный материал и в сердцах называли бестолочами или ещё чем похуже. Мы не обижались на это, мы воспринимали это как нечто, заведённое испокон веку, как голубое небо и зелёную траву; мы неизменно видели «двойку» или «тройку» как наказание, как то, за что нужно было чувствовать вину – и мы её в самом деле смутно чувствовали. Мы привыкли к отцу Вадиму, который всем по Закону Божьему ставил «пятёрки» и «четвёрки», называл всех «деточкой» и ласково всем улыбался. Мы привыкли к паре учителей, которые были равнодушны и к нам самим, и к своему предмету, глядя на свою работу как на тоскливую обязанность. Словом, ко всему мы привыкли, но не к тому, чтобы эти две вещи – отношение к успехам ученика и к нему самому – так явно разделялись. То, что мы имеем моральное право на наше мнение, во-первых, на равнодушие к предмету, во-вторых, – было чем-то пугающим, как если бы нас бросали в холодную воду и предлагали плыть самим.
Но ведь и Александр Михайлович тоже оставлял за собой право на ответное равнодушие к тем из нас, кто не считал английский значимым предметом. (Это всё было очень как-то не по-русски, ведь в русском уме заложена коллективность любого усилия: или спасаются все, или никто. А он вот вовсе не считал, что «все должны спастись», как и вообще что он должен кого-то «спасать», в смысле насильственного вложения знаний в нашу голову или насильственной тренировки языковых умений, но и в духовном смысле тоже.) Вся манера Азурова разговаривать с нами, или, к примеру, его готовность на уроке внимательно слушать один длинный, но интересный монолог и безжалостно обрывать другой – всё это показывало, что ко всем нам он относится по-разному: к каждой – с одинаковым прохладным дружелюбием (соотношение дружелюбия и прохлады в этой смеси оказывалось разным в каждом отдельном случае), но не к каждой – с человеческим интересом. Он не находил нужным скрывать этого. Но при всём том даже его человеческий интерес был интересом на дистанции, на расстоянии вытянутой руки. Я в этой манере сразу узнала что-то знакомое… Да, своего отца, конечно! Мне, привыкшей к этой тактичной отстранённости даже близкого человека, к этому уважению чужой воли, она не казалась обидной. Кому-то, вероятно, казалась…
Кому-кому: Наташе, кому же ещё! Ей, такой яркой, такой самой себе на уме, такой каждую секунду зреющей для новой провокации, эта глубокая эмоциональная невовлечённость педагога в процесс преподавания будто бросала личный вызов. Наташа не могла не поднять эту перчатку. Она решила поднять её уже в ноябре.
– Что ты думаешь об этом… мистере? – спросила она меня напрямик почти сразу после окончания первого урока.
Я пожала плечами. Сказала осторожно, уклончиво:
– Он интересный…
– То есть у вас это взаимно, да?! – взвилась она.
– Что взаимно, Тасенька, ты что, упала, приложилась головкой?!
– Я просила меня не называть Тасенькой при людях!
– Каких людях, кто тебя здесь слушает! (Мы стояли на лестнице, а весь наш класс уже ушёл в столовую.) Погляди, никого нет рядом… Что именно тебе не понравилось? То, что он взял мой телефон?
(NB: Это действительно случилось: он попросил меня на самом первом занятии написать мой телефон в его блокнот сразу под списком учащихся, при этом поставил от моей фамилии к телефону стрелочку и сделал рядом с моей фамилией пометку P, видимо, prefect или praepositor
.)
– Ура, догадалась, двух лет не прошло!
– А то, что я староста класса, тебе ничего не говорит?
(Ещё одна пометка в скобках: в ноябре, после того, как предыдущая перешла в другую школу, я действительно стала новой старостой. Не знаю, что здесь сыграло роль: может быть, то, что я, будучи почти отличницей, при этом не выделялась никаким проблемным поведением, ни скандальным, ни вызывающе-клерикальным; а может быть, то, что мы тогда в домовом храме встретились с Розой Марковной глазами.)
– Ты хочешь сказать, что он у всех старост берёт телефоны?
– Во-первых, думаю, да, во-вторых… Наташа, это смешно просто! Он почти старый мужик, у него седина в волосах!
– Седина в бороду – бес в ребро, – скептически прокомментировала моя подруга.
– Я этого вообще не почувствовала, никакого мужского внимания с его стороны!
– А ты никогда ничего не чувствуешь, поздравляю! Знаешь, что? Думаю, его надо проверить…
Свою мысль она, однако, сразу не продолжила и вернулась к идее только вечером, когда все легли спать, а мы, по традиции, уселись шептаться на подоконнике. Согласно её плану, я должна была, оставшись после уроков с новым учителем в кабинете наедине, сделать невинные глаза и… дальше как пойдёт, но в идеале – получить его телефон, а может быть, и пару комплиментов, нескромных намёков или скороспелых обещаний. Это, по её словам, убедительно доказало бы нечистоту намерений Азурова или, как минимум, его нестойкость к молодым девицам. Я дослушала её план до конца и только после яростным шёпотом возмутилась:
– Тася, это бред чистой воды! Во-первых, он мне сразу даст свой телефон, как старосте, во-вторых… я не буду этого делать!
– Хорошо! – легко согласилась она. – Тогда сделаю я. У меня и оснований больше.
В домовый храм можно было подняться из коридора третьего этажа, но сам храм находился не на третьем этаже, а несколько выше, в башенке или мезонине, о чём я, кажется, уже писала. Коридор третьего этажа и храм соединяла лестница в два пролёта, и у этой лестницы имелась своя лестничная клетка. Лестничную клетку от коридора отделяла стена с дверным проёмом без двери. На лестничной клетке не было ни одного окна, верней, одно окно изначально имелось, но за прошедший век его заложили – поэтому освещалось помещение электрическим светом, который полагалось включать при входе на лестницу, а в иное время он не горел. А ещё в коридоре третьего этажа стояла лавка, причём стояла так удачно, что любой, зашедший в темноту лестничного пространства и вставший в его глубине, мог бы видеть и даже слышать сидящих на этой лавке без большого риска самому быть увиденным.
Мы договорились, что после очередного урока английского языка Наташа попросит нового учителя о личной беседе и пригласит на эту лавку на третьем этаже, а я пронаблюдаю за ними, на всякий случай: и чтобы быть свидетельницей, и… мало ли что может случиться! (Глядя на всё это из теперешнего возраста, думаю: ну не бесконечная ли глупость? Зачем мы это всё затеяли? И снова ответ простой: скучно нам было, бесконечно скучно, а молодой энергии хоть отбавляй. Мальчики в этом возрасте лазают по заброшенным зданиям и телевышкам, а девушки творят такие вот вещи. Почти любая, обернувшись на свои шестнадцать или семнадцать лет, вспомнит похожую глупость, да часто и не одну.)
План имел несколько узких мест: учитель, во-первых, мог не согласиться на беседу наедине с ученицей – но Наташа обещала задействовать все свои актёрские способности. Во-вторых, лавка могла быть занятой – но вряд ли: два сдвоенных урока английского заканчивались как раз перед большой переменой, в которую не только в «рекреации», как называли третий этаж, но и в классах обычно почти никого не оставалось. При условии прохождения двух этих узких мест всё прочее зависело от Наташи – и «держись, любитель нимфеток, мы тебя выведем на чистую воду!» Обе мы к тому времени прочитали «Лолиту», а насчёт «нимфеток» мы, конечно, обе льстили себе: какие нимфетки! Великовозрастные кобылицы.
Я согласилась в этом всём участвовать, хотя кошки на душе скребли: я не чувствовала в этой просьбе дать свой, старосты, телефон никакого любовного, тем более эротического подтекста. Я втайне надеялась, что учитель выйдет из этого испытания с честью. Но если нет… я в нём разочаруюсь самым жестоким образом! И с первой парты тоже отсяду, потому что бережёного Бог бережёт! И Розе Марковне скажем… то есть я-то ничего не скажу, но с Наташи станется, а тогда погонят Александра Михайловича из Православной женской гимназии в три шеи. (А жаль будет, правда?)
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Другие электронные книги автора Борис Сергеевич Гречин
Голоса




 0
0