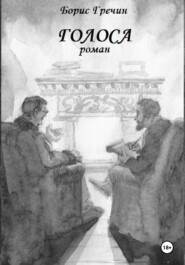По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Русское зазеркалье
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– You are homosexual, then? – поразилась я и прибавила вполголоса: – My poor darling…
Патрик, однако, расслышал – и нервно возразил:
– Sorry, but your ‘my poor darling’ sounds very insulting.
– Maybe it does, but, you see, it was not me who has started this conversation. I am not homophobic, not really; you keep forgetting that I, too, was a lesbian, so I have some experience in the field, – насмешливо прибавила я. (Как удачно совпало! Не то, чем можно гордиться, но никогда не знаешь, чем защитишься.) – Yes, I dare ask such questions, and I simply think that your homosexuality—now forgive me, please—is based exclusively on the fact that you have never met a really nice and sensitive girl. This is what I think of it, to be honest.
Про себя я с тоской подумала: сейчас вот вскочит этот Патрик с места и побежит жаловаться директору, как давеча американка, и тогда уж меня точно попросят с вещами на выход. Как грустно, как предсказуемо… Но нет, Патрик никуда не шёл: он остался сидеть на месте с приоткрытым ртом. А ещё он снова покраснел, и даже приметно.
– I am sorry! – тут же извинилась я ещё раз. – We will drop the subject and never mention it again. I am not a psychotherapist, and have never pretended to be one.
Патрик поморщился, что, видимо, изображало улыбку. Пробормотал:
– I should have listened to Luke in the first place; I shouldn’t have tried this conversation which turns out to be another massacre at Balaclava for me.
– On the contrary, it was a very nice chat, I have enjoyed it, – заметила я несколько легкомысленно.
– You did, of course! – это было сказано почти с гневом.
– I didn’t, actually, but… but I thank you again. You are a very nice… young gentleman, and you are nice to be in touch with, so please feel free to contact me on other… academic occasions.
Патрик вопросительно уставился мне в глаза. Переспросил, сомневаясь:
– You do mean it? There are many things I think I want to ask you—in your course, that is—but I often doubt whether it is proper…
– I do, – подтвердила я – и, достав из сумочки маркер для доски, быстро написала на пакете с чипсами адрес своей электронной почты. – This is my email, you can send your questions to it. Even personal questions if really necessary; I wouldn’t mind, – зачем-то прибавила я.
– Thank you, thank you so much! (Ура, всё-таки сбагрила пакет с чипсами!) Er… I’d better be going?
Я кивнула, улыбаясь. Проводила взглядом его нескладную фигуру. Да, мы ведь все в его возрасте были такими же: самоуверенными и страшно робкими при этом, очень умненькими и не очень умными, по-солдатски прямолинейными внешне и страстно ждущими нежности втайне. Стоит только нырнуть в глубокие и холодные воды памяти – она всё хранит…
* * *
…Да, мы с Наташей действительно стали, что называется, «близки», правда, не тогда, а несколько позже, в начале ноября. На ноябрьские праздники иногородних отпустили домой, а я эти дни провела с подругой. (Мама не была против того, что я не приехала на выходные, а отец… отцу я не смогла дозвониться, а решение пришлось принимать быстро. Да и потом: какая девушка в семнадцать лет добровольно захочет снова под родительский надзор?)
Случись это всё раньше, настолько же раньше я, наверное, охладела бы к православию. Верней, не так: я не охладела потому, что никогда и не была особенно горяча. Просто в начале ноября я окончательно прекратила попытки жить церковной жизнью и соотносить свои мысли и поступки с церковным учением. Мне было стыдно. Я чувствовала, хоть не знала, как назвать, что мы с Наташей делаем что-то дурное, срываем некий незрелый плод, который не мы и не так должны срывать; изображаем суррогат того, что может быть между мужчиной и женщиной, да ещё и с серьёзным выражением лица называем этот суррогат «отношениями»: как если бы игроки в пейнтбол без тени иронии считали «боем» свою игру, от которой нельзя умереть. С другой стороны, даже и этот суррогат очень хотелось попробовать: не столько по физиологической причине, сколько по причине его новизны. А ещё была в этом дерзость пересечения черты недозволенного, и эта дерзость для молодой девушки в «благонравном» окружении бывает, как ни крути, очень сладостна. Наташа-то эту черту пересекала почти каждый день – и своими вызывающими значками, и репликами на грани приличия, – а я была девушкой более робкой, вот мне и оставалась только эта потаённая возможность. Достоевский с вызывающей содрогание точностью увидел эту склонность молодых девушек у Лизы Хохлаковой в главе «Бесёнок» «Братьев Карамазовых». Будь у Лизы смелая подруга её возраста, боюсь, то, что я попробовала, его героиня тоже бы попробовала. Кстати, про Лизу Хохлакову я тогда вспомнила – и это испортило мне настроение на весь день, в течение которого я практически не общалась с Наташей. Ненадолго же меня хватило… Впрочем, это воспоминание имело один положительный результат: я для себя решила, что, по крайней мере, «не буду есть ананасовый компот, наблюдая за распятым мальчиком», то есть не зайду в своём пересечении границ недозволенного куда-то очень далеко. И… церковь, как не сумевшую ответить моим нуждам и чаяниям, тоже проклинать не буду.
Больше того: неделю или две я в своей голове носила новый образ, образ «грешницы, но христианки», и даже стала конструировать некий проект «обновлённой» на западный манер православной церкви, где, во-первых, было бы позволено женское священство, во-вторых, откуда бы не изгонялись женщины и девушки с такими, как у меня, кхм, предпочтениями… (Не предпочтениями, неверное слово, а практикой поведения: вы ведь не говорите про кого-то, кто пришёл в магазин за хлебом, а вынужден покупать сухие и безвкусные как картон хлебцы по причине отсутствия нормального хлеба, что это его «предпочтения», правда?) И как бы не я возглавлю эту новую церковь, став лидером общественного мнения, мечталось мне тогда… (Как хорошо, что больше десяти лет прошло с тех пор: уже не так стыдно вспоминать.) Параллельно с этими горделивыми мечтаниями и не усматривая никакого противоречия им, я всерьёз разрабатывала мысль о том, чтобы покаяться в этом «плотском грехе» на исповеди, и как бы даже не отцу Вадиму. Но отказалась, к счастью. Отцу Вадиму покаяться, конечно, было можно, но имелось бы в таком покаянии ему, непорочной овце Христовой, что-то от бравады, от ещё одного извращённого удовольствия шокировать невинного человека (недаром же Лиза Хохлакова именно Алёше, бывшему послушнику, рассказывает свои нездоровые мечтания) или, как минимум, от душевного стриптиза, от торговли страданием напоказ – и зачем, спрашивается, усугублять одно не очень хорошее дело вторым, совсем уж нехорошим? А вариант пойти в другой храм, не в наш, домовый, я даже не рассматривала, предчувствуя, что покаяние-то на меня наложат, а понимания, скорее всего, не проявят и как быть, тоже не скажут. Ведь я уже вступила в эти отношения – так можно ли их бросить, тем более что у меня и повода никакого не было их бросать? Насколько честно – перестать делать что-то явно дурное, но то, что ты уже добровольно пообещал делать? Насколько допустимо, к примеру, для новобранца гитлеровской армии дезертировать с поля боя, если он уже принёс воинскую присягу? И насколько обычный батюшка задумывается о таких вещах, насколько он готов давать ответы на эти вопросы? Может быть, и задумывается, может быть, и готов, но рисковать я не хотела. Нет, нужен мне был зрелый, опытный, умный, деликатный священник, кто-то вроде моего отца… но не отцу же, в самом деле, в этом признаваться! (От самой мысли волосы вставали дыбом.) В конце концов, я ему тогда, в кафе, уже покаялась, наперёд, а он меня наперёд простил, то есть будем считать так. Будем считать…
Ах, ну да: было в этих отношениях, кроме прочего, очень естественное для молодой девушки страстное желание дарить любовь другому человеку и получать от него любовь, желание проявить благодарность к тому, кто о тебе заботится; желание как-то вознаградить за дружбу. (Совершенно искренне думаю, что огромное число девушек, вступающих в однополые отношения, принимают за любовь гипертрофированную дружбу. Кроме прочего, ещё и «синдром Лизы Хохлаковой» является причиной. А если не он, то страх: страх перед близостью с другим полом, которая опасна и физически – от неё беременеют, – и эмоционально, и вообще представляет собой вызов всему уютному и привычному, что есть внутри тебя, потому что остаёшься нагой и совершенно беззащитной наедине с тем, у кого полностью иначе устроены чувства и разум, с мужчиной, которые вообще для женщин – существа с другой планеты. Просто прекрасные мысли для ex-lesbian
, однако: никакой у меня, получается, солидарности нет с бывшими товарками… по несчастью. Да полно, ерунда: какая же я ex-lesbian? А честный ответ на этот вопрос такой: самая настоящая, ведь если что-то выглядит, как собака, лает как собака и кусается как собака, то это и есть собака, даром что своим умом считает себя чем-то не меньше лошади.)
И, наконец, на краю сознания гнездилась ещё мысль, что это всё детское, не совсем настоящее, и поэтому никакого большого греха в этом нет. Но… надо бы уже прекратить разбираться в своих мотивах. И без того почти три страницы исписала. Для кого, перед кем я хочу оправдаться? Перед британцами? Перед ними и оправдываться не надо, они моему давешнему признанию чуть не аплодировали. (Фу, какое безобразие! Почему от этого неосталинизма обезумелой политкорректности западного мира можно защититься только намеренным шутовством и юродством?) Или перед какой-нибудь православной матушкой, которой это всё однажды нечаянно попадёт в руки? Она меня, боюсь, не поймёт и не извинит, хоть три я страницы напиши, хоть тридцать три. Эх, долго ли я буду плавать между двух берегов, ни тому, ни другому берегу не годная, ни Богу свеча, ни чёрту кочерга?
…После ноябрьских праздников началась вторая четверть, хотя обычных школьных каникул нам отгулять так и не дали (уж не помню, почему: возможно осенних и весенних каникул в расписании нашей гимназии вообще не было предусмотрено). Именно тогда в школе появился новый учитель английского.
В первой четверти английский у нас вела Варвара Константиновна – женщина крупная, громогласная и очень советская, и в плохом, и в хорошем. Уроки её были больше похожи на муштру курсантов военного училища и проходили всегда по более или менее однообразному сценарию: диктант, ответы домашних заданий у доски, объяснение нового материала, выполнение грамматических упражнений или переводов из учебника, домашнее задание. О нашем понимании аутентичной устной речи Варвара Константиновна не заботилась, считая, видимо, что понимать её чёткое и громкое англо-советское произношение (английская фонетика, но фразовые интонации партийного работника) для нас вполне достаточно. С другой стороны, её безусловным достоинством как учителя был заранее отмеренный объём лексики (пятнадцать или двадцать слов), который она нам давала каждую неделю, заучивание которых так же регулярно проверяла и за незнание которых беспощадно наказывала. Как ни крути, без слов разговаривать нельзя, и лучше этого кондового, простого как рельс советского метода расширить словарный запас ещё никто ничего не придумал. Другой сильной стороной её метода была постановка у каждой ученицы способности писать красивым письменным почерком: умения, которым молодое поколение британцев владеет через одного, а у молодых американцев с этим и вовсе туго. За каракули или просто за печатный шрифт оценки тоже беспощадно снижались. Я была в числе отличниц, хоть, поленившись с домашним заданием и замешкавшись с импровизацией, могла схватить «четвёрку», а могла и «двойку»: у Варвары Константиновны любимиц не было. Вообще, английский язык как-то не трогал нас, одиннадцатиклассниц, оставлял нас равнодушными, включая даже и меня, у которой с ним в десятом классе сложились тёплые отношения – всё из-за Игоря и областной олимпиады, конечно. Будущей матушке английский язык как-то не очень потребен…
Невозможно было вообразить себе, что Варвара Константиновна куда-то исчезнет: она, казалось, будет преподавать всё время, ещё и наших детей будет учить… А между тем, со второй четверти она ушла. То ли вышла на пенсию, наконец (ей было за шестьдесят), то ли вскрылся старый хронический недуг – слухи ходили разные, впрочем, и не сказать чтобы её уход в нашем классе очень как-то обсуждали. Никто особенно не радовался её уходу, и никто особенно не огорчался – кроме, правда, «благоверных»: те завсегда были за любой домострой и вздыхали о том, что не иначе как нам сейчас дадут молоденькую учительницу, кого-то вроде Виктории Денисовны, без всякого умения поддерживать дисциплину, авторитета и понимания предмета.
Недели две в ноябре занятий по английскому у нас не было совсем – тем не менее мы обязаны были присутствовать в классе, чинно сидеть за партами и делать упражнения из учебника, номера которых в начале урока Роза Марковна писала на доске. (Упражнения эти так после никто и никогда не проверил.) На третьей неделе в начале урока в класс вошёл мужчина лет сорока – он так тихо это сделал, что я его даже не заметила и вздрогнула, когда он заговорил:
– Morning, my dear young ladies. My name is Alexander Mikhaylovich – but I think you should rather call me by my second name, as ‘Mr Azurov,’ if you speak English. ‘Sir’ is also acceptable.
Он сразу обратился к нам на хорошем английском с естественным темпом, как если бы разговаривал с друзьями или знакомыми, не делая никаких скидок на наш уровень владения языком и никаких попыток быть особенно, нарочито отчётливым. Александр Михайлович в принципе обычно говорил негромко и не пытался произвести никакого специального учительского впечатления: так, на первый урок он пришёл в джинсах и свитере. Правда, это не был некий мешкообразный свитер с протёртыми локтями, а что-то очень стильное: он ему шёл.
Минуты три Азуров рассказывал о себе: полностью или почти полностью понимала его, наверное, только я да ещё человека два в классе. Примолкнув, он обвёл нас глазами. Заметил:
– You don’t seem to understand much of what I am saying. I suppose we must introduce sort of red or yellow cardboard cards that you would show me each time you don’t get me. Do you get this?
Я, осторожно полуподняв руку, уточнила у него:
– May I translate?
– и, получив одобрение, перевела этот совет для класса. Девушки послушно записали требование про карточки. Пронеслись еле слышные вздохи, а Оля Смирнова, кажется, прошептала:
– А смысл, если ни слова не понятно? Только если на лоб их себе приклеить…
Учитель услышал эту реплику и добродушно отреагировал:
– You may place it on your forehead, sure, but that would be funny I think. Well, I don’t really care. No, – это уже обращаясь ко мне, – you don’t need to translate that. What is your name, by the way?
– Alla, – ответила я чуть испуганно.
– Thank you, – кивнул он. – I guess we must anglicise it a bit, so I will call you Alice, if you don’t mind.
Вот так я и стала Элис: с того момента и, возможно, навсегда. Имена большей части моих одноклассниц Азуров тоже подверг беспощадной англификации: сделав из Маши – Mary, из Лизы – Liza, из Сони – Sophie, из Варвары – Barbara, из Риты – Margaret, из Наташи – Nathalie, из Лены – Helen, из Кати – Kate, из Евдокии – Eudoxie, из Ксюши – Xenia, и, наконец, из Даши – Dolly. Последнее было забавнее всего и при этом содержало в себе отсыл к «Анне Карениной», что я сообразила только задним числом.
В течение месяца-двух мы полностью познакомились со стилем Александра Михайловича («мистера Азурова», коль скоро он сам просил себя так называть, а учитывая, что он настаивал на избегании русского языка на уроках английского, у нас нечасто появлялась возможность назвать его по имени и отчеству) и почти привыкли к этому стилю, хоть привыкнуть к нему нам было непросто. Не то чтобы новый учитель был каким-то сверхобычным, шокирующим, провокационным, бурлящим идеями «зажигательным мистером Китингом» – нет, всё мимо, нет даже и близко. Он вёл себя с нами очень сдержанно, пожалуй, консервативно – но это была иная, вежливая, сдержанность, иной консерватизм, чем тот, к которому мы привыкли, и всё это сбивало с толку, конечно. Александр Михайлович не очень беспокоился о том, что мы сбиты с толку. Нет, неверное слово: он об этом вообще не беспокоился.
Наверное, должна пару слов сказать о его методе, потому что другого случая не представится. Первый урок был начат с аудирования, да и вообще аудированию в его системе уделялось много времени. Собственно, вся его речь, обращённая к нам, уже была аудированием: поняла – хорошо, не поняла – подними карточку или руку и переспроси, постеснялась переспросить – переспроси у подруги, поленилась переспросить подругу или подруга не поняла – получи «два». (С оценками Азуров, как и его предшественница, совершенно не церемонился.) Кроме аудирования, мы заучивали наизусть стихи, читали и переводили на уроке статьи из зарубежной прессы, готовили доклады и выступали с устными сообщениями, произносили спонтанные диалоги, инсценировали ролевые ситуации, смотрели фильмы, обсуждали их. (Обсуждать фильм или вообще вести ту или иную дискуссию неудобно, когда ученики сидят за партами, поэтому Александр Михайлович крепился, крепился, да однажды взял и составил из шести парт в задней половине класса единый семинарский стол, и мы теперь занимались за этим столом, благо было в классе всего тринадцать девушек, и места всем хватало.) Традиционные задания вроде объяснения грамматики, лексических диктантов или контрольных работ в его системе тоже, правда, присутствовали. Контрольные он составлял сам и оценивал почти сразу после сдачи, прямо в классе, не трудясь подчёркивать ошибки красной ручкой (у него и не было красной ручки), а ставя баллы, от нуля до двух, за каждое задание, после суммируя и переводя их в обычные оценки по одному ему известным критериям. Единственным, с чем мы попрощались навсегда, стали грамматические упражнения из учебника.
– I don’t believe in them,
– ответил новый учитель на вопрос одной из наших «благоверных» о том, почему мы теперь не делаем упражнения. – They have never helped anyone.
И всё, упражнения отправились в мусорную корзину, а за ними – фигурально, конечно – туда ушли и учебники, для характеристики которых Азурову снова хватило трёх фраз:
– They are not informative. There is nothing in them that would be interesting for you—or for me, indeed. What is the worst about them is that they teach you sort of artificial ‘Soviet English’ rather than real English.
На попытку одной из наших «благоверных» поспорить с этим и сказать, что, дескать, Варвара Константиновна от учебников не отказывалась, Александр Михайлович холодно заметил:
– I am not going to discuss with you any of the teachers you had before me. It is unethical. Your previous teachers may be very good professionals, so what? I am a different person. And one thing more, Olya: please do not teach me how to do my job. This is one of the few things I absolutely cannot stand. By the way, why do you keep speaking Russian? Can you phrase your question in English? Cannot you? You shouldn’t have asked me, then.
Так выходило, что теперь весь наш материал стал аутентичным: если мы читали статью, эта была статья из the New York Times или the Daily Mail, если слушали стихотворение – это было стихотворение британского или американского автора, начитанное британцем или американцем; наконец, и не очень частые фильмы мы тоже смотрели с оригинальной звуковой дорожкой, без субтитров при том. Язык переставал быть для нас искусственным, изолированным от прочей жизни предметом, он становился окном в большой мир, совершенно отличный от нашего, мир со своими пороками, но и со своими достоинствами. Александр Михайлович не был англофилом – если быть точнее, он был англофилом, при этом умудрившимся остаться русским патриотом: крайне редкое сочетание, к которому мы понятия не имели, как относиться.
Всё это – методы, материал – больше учительские, даже методические вещи, но не менее важным, чем методика, является стиль педагога, его отношение к жизни, его манера держаться. Возможно, они важней методики; возможно, они важней вообще всего остального, что делает учитель, потому что знания по предмету забудутся, а его стиль в памяти останется. Стиль Азурова с неизменным хрустом растаптывал наши представления о том, как должен вести себя педагог, и вовсе не в том смысле, что наш учитель английского являлся на урок в кроссовках, или, по примеру некоторых западных прогрессивных учителей, садился на парту, или предлагал нам вырвать предисловие из книги и выкинуть его в мусорное ведро. Ничего такого он себе не позволял. Нет, не в этом было дело. А в чём же?
Другие электронные книги автора Борис Сергеевич Гречин
Голоса




 0
0