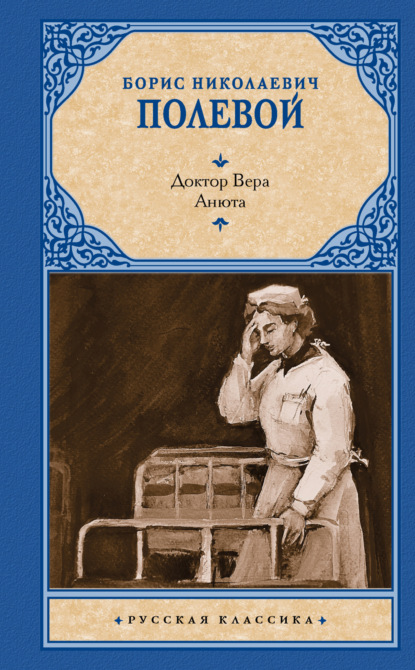По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Доктор Вера. Анюта
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Милая, не пейте. Хватит, – терпеливо произнес тот, кого назвали отставной козы барабанщиком, и потянулся было убрать бутылку. Он смотрел на Ланскую с тревогой, с болью, с упреком.
– Не пить? А что же вы мне прикажете делать? – Она вырвала бутылку и, плеская коньяк на стол, налила себе полную чашку. – Что же, я вас спрашиваю, вы мне прикажете делать? Я не могу даже повеситься в туалете, ибо вы и ваши покровители нагадили там столько, что замерзший сталактит поднялся до половины комнаты. – Она с заговорщическим видом наклонилась ко мне. – Этот вице-бургомистр ленится выплескивать нечистоты с балкона. Зачем? Он исторгает их на пол в клозете. За ним убирает дед-мороз.
– Нет, когда вы в таком состоянии, с вами невозможно разговаривать. – Вице-бургомистр на цыпочках пошел к двери.
– Бежишь? Деятель! Паршивое ситро, притворяющееся шампанским! – куражась, кричит Ланская, бросая хрустальную рюмку в захлопнувшуюся дверь. Она наклонилась и вдруг обняла меня, потянулась ко мне мокрыми губами. – Вера, ведь это он, этот человек, уговорил меня остаться, – пьяно всхлипывая, говорила она. – Я действительно растянула ногу, лежала в постели, но меня предлагали унести на руках. А он спрятал. Болтал всем, что я погибла… Говорит, что остался беречь свои книги. Их, видите ли, нельзя было увезти… Книги? Он действительно любит редкие книги. Он тащит их в свою нору и прячет от людей… Но остался он не из-за книг, нет… Ух, ненавижу!
Ланская вскочила и стала с неистовством рвать какую-то пухлую книгу, валявшуюся около печки, комкать страницы, совать их в топку. Пламя сладострастно заурчало. В комнате становилось жарко. Пот выступил на ее разгоряченном лице, она вытирала его ладонью или рукавом, как крестьянка, пекущая хлебы.
– О, вы его не знаете! Его никто не знает… Я как-то купила в комиссионке туфли, заграничные, изящные, прямо загляденье. – Она вытянула ногу и пошевелила кончиками пальцев. – Они очень стройнили меня и шли к новому платью. Но однажды я возвращалась после спектакля, шел дождь. И они сразу раскисли, оказались совершенной дрянью, крашеным картоном. Так и этот орденоносец, заслуженный, черт его знает, какой!.. – Она потянулась было к бутылке, но я отставила ее подальше, и, уткнувшись мне в плечо, Ланская шумно заплакала. – Я женщина, я просто баба. Не осуждайте меня, я была к нему привязана. Я думала… И потом… – Она зашептала, будто поверяя мне страшную тайну: – Я уже не молода. В этом возрасте бросать все, что имеешь, к чему привык, – это ведь трудно. Но все-таки я, наверное, бросила бы, уехала, как этот старик Лавров. Помните Лаврова? Убежал, схватив из всего своего собрания живописи одного Врубеля… Врубеля и жену. Но я верила этому Винокурову. Я любила в нем борца за настоящее искусство. Борец! Он спокойно рассчитывал, что выгоднее, – уехать или остаться. У него выходило – наши разбиты, отступают в беспорядке, нет сил защищать Москву. Ну, а раз выгоднее, давай скорее меняй цвет, приспосабливайся к новой среде. Вице-бургомистр. Корреспондент газеты «Русское слово»… Тьфу! – И сочный плевок повис на двери. – Деятель германской администрации, поборник нового порядка, а на уме одно – как бы покрепче примоститься на запятках немецкой кареты. Тьфу!
Новый плевок. Я все время слышала, как в прихожей что-то шуршит. И вот дверь тихо открылась. Появился Винокуров с терпеливым, мученическим выражением лица.
– Кира, вы забываетесь. Госпожа Тройкина, извините ее. Вы видите, в каком она состоянии.
«Госпожа!» Он сказал «госпожа» мне, Вере Трешниковой! Я схватила пальто. Но Ланская была уже у двери.
– Вон! Не сметь ко мне ходить, старый мерин! – Она захлопнула дверь и сунула в ручку платяную щетку вместо задвижки. – Вера, вы, может быть, читали когда-то его статьи в «Верхневолжской правде». Они опирались на постулаты Сталина. Ну, а теперь он публикует их в «Русском слове» и, опираясь на догмы этой хромой мартышки доктора Геббельса, доказывает противоположное. Тут и примат белокурой расы, и нордическая кровь, и торжество германизации или непроглядная ночь мирового еврейства… Омерзительно!.. Эй, вы, я знаю, – вы там подслушиваете, за дверью. Так я повторяю для вас: омерзительно!
Теперь она не играла. Это была уже не Любовь Яровая, не Анна Каренина, а Кира Ланская со своей трагедией и своей мукой.
– Он слизняк, гад, – говорит она, жарко дыша мне в лицо коньяком. – Но, милочка, буду откровенна: я тоже хороша. Ну что бы я стала делать в эвакуации? Житье в каморке, районная эстрада, фронтовые концертики. Нет, я так не могу… Дайте мне бомбу, автомат, что-нибудь такое, я бы взорвала какой-нибудь штаб, застрелила какого-нибудь генерала. Я могла бы погибнуть, как Мария Стюарт, как Жанна д’Арк, как Шарлотта Корде, но выносить за ранеными горшки, петь песенки во время обеденных перерывов!.. Да, да, нужно, благородно, знаю, но это выше моих сил. Рожденный ползать летать не может. Ну, а рожденный летать? Этот старый мул, – она показала в сторону двери, – он с наступлением вечера трясется, как овечий хвост, и заставляет входную дверь комодом… Я больше так не могу. Я не хочу умирать от глистов или от сыпно-тифозной вши. Я должна умирать, как жила…
Она отошла к стене, прислонилась к ней, вытянула руки, гордо и гневно смотря перед собой, будто вот сейчас раздастся залп.
Что это? Крик души? Привычная игра? Нет, хватит с меня. Мне душно. Я схватила пальто и, не одеваясь, толкнула дверь, при этом сильно стукнув ею Винокурова, который, должно быть, действительно подслушивал. Каким-то чудом не поскользнувшись, сбежала с обледенелой лестницы и уже внизу немножко отдышалась…
Было еще светло. Оглянулась, нашла на фасаде окно Ланской. Оно было забито, как и другие окна, и из трубы, выходившей в форточку, валил густой, кудрявый дым: горели несчастные, ни в чем не повинные, старые книги.
Отдышавшись, я как-то машинально подняла горсть снега, бросила в рот. Потом обтерла снегом лицо, руки и только тут заметила, как хорошо вечернее небо, холодное, чистое, начинающее уже лиловеть. На нем зажигались первые зеленоватые звезды.
Домой, скорее домой!
Возвращалась почти бегом. Наши сырые, мрачные подвалы казались мне теперь не только надежным убежищем от бомб, но и от этой чужой, не вполне еще мною познанной страшной жизни, которую принесли нам гитлеровские орды.
Но по дороге меня начала мучить мысль об инженере Блитштейне. Нам тяжело, очень тяжело, но нас в наших подвалах все-таки много. А он – один, с больной женой, с детьми… Как он изменился! Из цветущего, энергичного, жизнерадостного человека разом превратился в робкое, забитое существо… Эта испуганность, приниженность, эти затравленные глаза… Кажется, он весь сжался, втянул голову в плечи, зажмурился, приготовился к ударам и уже смирился с их неизбежностью.
Нет, как бы там ни пугала Ланская, я к ним пойду, и пойду сегодня, вот сейчас. Обязана пойти – это мой врачебный, это мой… ну, просто мой человеческий долг. Я врач, я советский врач. Да и в этих ее страхах значительная доля истерики. Мало ли что в городе болтают. Нет, страшно все-таки, что там ни говори… Но хватит, хватит самоковыряний, марш к больной, которую ты обещала навестить!
Очень, очень тянуло меня в наши подвалы, но я все-таки отважно миновала развалины Больничного городка и вскоре оказалась перед так называемыми Красными воротами комбината «Большевичка». Впрочем, не было уже ни самих ворот, ни высокого забора, отделявшего территорию комбината, ни деревянных домов, некогда стоявших вдоль этого забора. Все неузнаваемо изменилось. Развалины сгоревшей ткацкой фабрики как бы выползли прямо на улицу. Но знаменитые фабричные бани, куда приезжали со всего города любители всласть попариться, с веником и с квасом, были целы. Ориентируясь на бани, я без труда отыскала большой четырехэтажный дом, где жили инженерно-технические работники. Он тоже уцелел.
Не давая себе колебаться, я вошла в подъезд и сразу же оказалась перед дверью квартиры 8, на которой была прибита медная дощечка: «И. А. Блитштейн. Инженер-колорист». Под ней почему-то был прикреплен кнопками небольшой кусок черного картона, на котором желтым была оттиснута шестиконечная звезда, похожая на елочное украшение. Здесь! Ну что же. Постучала решительным, «докторским» стуком. За дверью послышались неясные звуки, осторожные шаги, но ее не открыли.
Постучала сильнее.
– Врач по вызову…
Шаги. Шорохи. Приглушенные голоса. Стучу уже кулаком:
– Больная Блитштейн здесь живет?
И тотчас же дверь приоткрылась. В щели, ограниченной цепочкой, я увидела инженера. Он смотрел на меня, как на привидение.
– Ах, это вы, доктор… – А сам даже привстал на цыпочки, точно бы желая убедиться, не стоит ли кто у меня за спиной.
– В чем дело? Вы меня приглашали, так пропустите… Где больная?
– Это вы, доктор? – повторил он с облегчением. – Спасибо, огромное спасибо… Извините, мы подумали… Так проходите, проходите! – Дверь наконец открылась совсем.
Я вошла в темную кухню, где, как видно, и обитала семья. Топилась плита. На ней что-то кипело в большом баке. Было тепло, даже жарко. Воздух насыщен тяжелым, едким запахом. Перед плитой железные противни, в которых что-то похожее на студень. В углу валялись вываренные лошадиные кости…
– Покажите больную.
– Вот, вот, пожалуйста, – суетился инженер. – Миррочка! Это доктор к тебе… Видишь, а ты говорила…
Теперь, присмотревшись к полутьме, освещенной отсветами топящейся плиты, я разглядела в углу кровать и на ней женщину примерно моих лет… Мамочки! Я же сразу узнала ее, хотя она была почти не похожа на яркую, громкоголосую жену инженера, которая посещала его, когда он лежал у нас в хирургическом… «Вот перец-баба!» – восхищенно восклицал Дубинич, вообще-то неравнодушный к женским прелестям. После ее ухода в палате надолго оставался запах острых духов, а сестры до конца дежурства обсуждали ее туалеты… И вот она лежит, бледная тень той, какую я знала. Ссохшаяся, посмуглевшая, она походит, пожалуй, на богородицу со старинной иконки, которую тетя Феня хранит у себя под подушкой. От прежней у нее разве что эти черные, вразлет, брови да пышные волосы, спутанной копной лежащие на подушке.
Крупные бледные губы больной трогает робкая улыбка.
– Доктор, извините, у нас такая грязь… Не встаю вот, а он…
– Что же, деточка… Доктор понимает, кустарное мыловарение – это очень грязное производство… И к тому же дом не топлен, батареи полопались, живем все вокруг плиты…
Ну чего, чего они извиняются, будто я не вижу? Осмотрела больную. Впрочем, и без осмотра картина была ясна. Инфаркт есть инфаркт. Но я все-таки выслушала ее, щупала пульс, задавала совершенно бесполезные вопросы – лишь бы они не извинялись, лишь бы разрядить тягостную атмосферу и замаскироваться от этих тоскливых, вопрошающих взглядов…
– Чувствуете покалывания, неудобства в области сердца?
– Доктор, вы же видели этот знак на двери. Это – могендовид. Они превратили его в печать смерти. Мы обречены, – говорит больная вместо ответа. – Как вы решились к нам зайти?
– Не спрашивайте ерунды… Когда вы в последний раз ощущали боль?.. Острую? Тупую?
– Нас ведь никто-никто не навещает… Все боятся.
– Мирра, ты несправедлива. А эти женщины утром?
Черные глаза будто заливаются глицерином. Меж длинных ресниц образуется прозрачная пленка…
– Да, да, доктор, это просто поразительно… Сегодня вдруг пришли три женщины, обыкновенные, простые женщины из семидесятого общежития. Из них одна когда-то работала уборщицей в Осиной лаборатории, а две совершенно незнакомые. Предложили спрятать нас в этом огромном доме… Вы этот дом знаете, конечно, его здесь называют «Париж»… Они увели девочек, а Ося – он опять остался из-за меня… Ужасно, ужасно, этот инфаркт, он ведь так редко бывает у женщин моего возраста… Всех связала, вся семья из-за меня гибнет…
– Мирра!
– У вас неплохое состояние. Но нужен покой, абсолютный покой. Никаких резких движений. На бок вы уже можете ложиться, но очень осторожно, – произношу я привычные слова, понимая всю их нелепость, даже кощунственность при этой ситуации.
Но, к счастью, меня не слушают.
– Доктор, что же это такое?! Облавы, врываются в квартиры, хватают, бросают в машины, куда-то увозят… Ужас, ужас! Нас почему-то на этот раз миновало, но этот проклятый знак на двери… Мы, кажется, последние из могикан… Доктор, ну хоть вы скажите Осе – пусть он оставит меня и уходит…
Женщина плачет, уткнувшись в подушку. Мужчина плачет, отвернувшись к плите, на которой в баке хлюпает густая кипящая смесь. Я сама чувствую, как теплый, будто ватный ком подкатывает к горлу… Этого только им не хватало. Не сметь, Верка, не сметь! Усилием воли я проглатываю этот ком и говорю каким-то сиплым, не своим голосом: