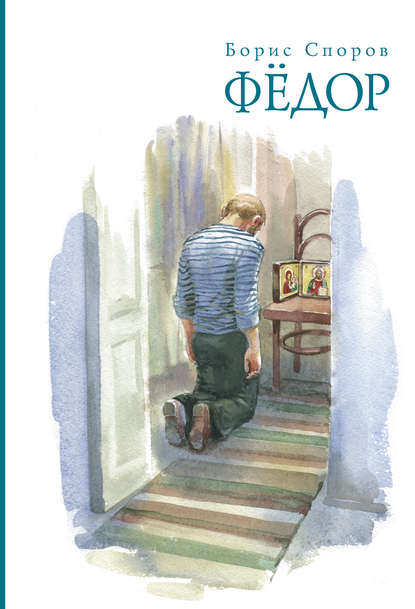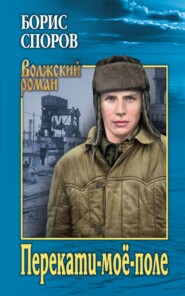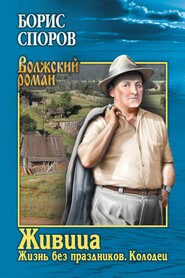По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Федор (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А ты у нас, дедушка, хранитель Братовщины, тебе и умирать нельзя, – кто Братовщину хранить будет? Так-то!
Смолин посмотрел на внучку отсутствующим взглядом и тихо сказал:
– Вот ты и будешь… хранителем.
Они сидели за обедом и непринужденно вели разговор.
– Да ты что, дедушка, какой же я хранитель… и лет мне, да и вообще!
– Господь хранитель всего, а уж кому Он вверит дело Свое – только Ему и знать… А умереть, что же, впереди вечность. – Старик вяло хлебал мягкий молочный суп, и белые капельки с ложки падали и повисали на бороде.
Вера любила деда, как никого в родне, все ее сознательное детство было связано с ними погибающей Братовщиной; и теперь она пристально всматривалась в его лицо – и уже явственно понимала, что любимый ею человек, действительно умирает. Казалось, и губы его уже омертвели и трудно говорить.
– А ты вот, внучка… побудь теперь дома, не отлучайся, – он помолчал, – недельку, что ли…
По кольцу железной дороги пошел состав. Поначалу лишь постукивание и посвистывание электровоза… Оба поморщились, хотя и смирились за долгие годы, привыкли к обложному грохоту, но всякий раз это воспринималось как наказание.
– Ну, пошел черт по бочкам… – Петр Николаевич усмехнулся и положил ложку на стол. – Авось не на всю ночь…
Вместе с грохотом и лязгом металла как будто кто посторонний входил не только в помещение, но и в жизнь человека, проникая в подсознание.
– И долго все это будет?
– Это испытание?.. Долго.
– Теперь уже навсегда, наверно.
– Нет, не навсегда. Вот если, когда церковь откроют, вся Братовщина молиться пойдет – тогда сатана сорвется со своих путей.
– Такого не дождешься. Потому и говорю: навсегда.
– Все в руках Божиих, – согласился Петр Николаевич. – Чайку поставь, Вера… Оно все так кажется: бесконечно, долго, навечно, а Господь возьмет и по-своему рассудит – все «бесконечное» враз и рухнет. Уж какая прежняя Россия была, до переворотов – не было в мире государства богаче и сильнее, а в одночасье и рухнула. А сегодня и того проще может быть.
– А ты ложись, дедушка, ложись, смотри, и рука дрожит.
– Устал, – согласился он, – чайку попью и лягу… Нам с тобой еще много говорить… – И шарил, шарил незрячей рукой по столу и никак не мог найти чашку.
Вскоре поплыл запах заварки, хиленький, но запашок. Вера наполнила чашки чаем, поставила на стол карамельки и сухарики, и сама села к столу. А дедушка одной рукой все ощупывал край стола, а второй так и пытался что-то нашарить – тщетно. И только теперь Вера поняла, что он ослеп.
– Дедушка, а дедушка, да ты, что ли, не видишь, ослеп, что ли?
Петр Николаевич вздрогнул и упрямо поджал губы:
– Нет, Вера, я вижу… Вот посмотри в окно – Федя Серов крылечко поправить решил.
– И правда, дедушка, что-то он там затевает.
– Вот так-то, а чаек мне пододвинь… руки отмирают.
– Дедушка, а не вызвать врача?
– А это зачем? – и дедушка добродушно усмехнулся.
4
На удивление «железный дракон» к вечеру угомонился, и даже состав вагонов припарковали к ангару. Как обычно после грохота наступали благостные часы – Братовщина погружалась в тишину.
Петр Николаевич лежал на кровати. Вера вымыла посуду, убрала в комнате, сходила за свежим молоком.
– Спишь ли? – управившись с делами, спросила она.
– Теперь уже не время спать, – и мудростью повеяло от его слов. – Прочитай мне главку от Иоанна… восьмую.
И она прочла.
– Вот ведь как! – восторженно так и воскликнул он. – Кто без греха, тот и брось камень первым… отец ваш дьявол!.. Строго судил, но уж и праведно. – Помолчал, повздыхал, сложил на груди руки, чтобы унять дрожь, и наконец сказал спокойно: – А ты, Вера, вот что: ты уже взрослая и в Господе живешь – ты не пугайся, что я умру скоро, мой век уже за плечами, без двух годов девяносто… Достань из комода, в правом ящике, на дне, синюю папку… достала? Вот и раскрой – сверху оно и лежит, завещание. А завещаю я домик тебе, там и документ оформлен и заверен у нотариуса, и деньги на пошлину я скопил – это тебе подарок от меня… А еще я завещаю похоронить меня на здешнем кладбище… знаю, знаю, что тридцать лет не хоронят, а ты вот меня и погреби без разрешения, а где – нарисовал я где и разметил точно: рядом со Смолиным… И еще завещаю: сорок дней жить тебе только здесь, в Братовщине, и каждый день над могилой читать Псалтирь – пять, десять минут. Минует сорок дней, позови батюшку, пусть панихидку отслужит на могилке – и все. Дальше тебе Бог укажет дорогу – можешь оставаться в Братовщине, можешь ехать к матери, твоя воля… А еще я тебе завещаю— крест от нашей церкви. Когда безбожники рушили храм, в конце пятидесятых, при Никите сумасшедшем, я ночью крест сорванный и увез на дровишках – и ждет он своего времени у нас во дворе, на клетушке под сеном. Так вот, когда срок придет, ты и объяви об этом, пусть и воздвигнут его на место. И икону храмовую возвратишь – Бориса и Глеба. Вот и весь завет… Здесь в папке все бумажки-документы по дому. Господи… – Он откинулся на подушку, но и тогда, видно было, голова его содрогалась от напряжения.
Все это было сказано очень просто, однако Вера, привыкшая к тому, что дедушка просто так ничего не говорит, и ему надо верить – задыхалась, как будто воздух застревал в груди. Как это: дедушка – живой, с которым только что из-за стола, пересказывает свое предсмертное завещание. Ведь это же как на своих похоронах прощальное слово. И она с трудом сдерживала себя, чтобы не заплакать навзрыд от пронзительной боли и обиды… Вызвать скорую помощь, увезти в больницу, и врачи, конечно же, не дадут ему умереть – и тогда он еще поживет.
Дедушка легко угадал ее состояние:
– Ты, Вера, и не думай, – никаких скорых, никаких врачей, никуда из дома не увози – ни живого, ни мертвого, только в храм… Да я и чувствую себя неплохо – бывало хуже. А что с завещания начал – так чтобы успеть и не забыть… Ах, как хорошо, что дожил я до весны… Вот и Федя утречком по Братовщине меня прогулял. Еще-то, наверно, и не выберусь…
Ты, внучка, не печалься – все ладно складывается. Господь меня балует… А теперь из комода, ящиком пониже, мою заветную книгу… Первую тетрадь писал мой отец – за шесть лет до моего рождения начал. А заголовок – это уж я после наклеил.
– Хроника села Братовщина, – прочла Вера вслух. – Начато в 1894 году.
– Так оно и есть. А знаешь ли, почему в 1894 году?.. Откуда тебе и знать. В том году была перепись населения, и прадед твой был переписчиком по Братовщине. Тогда он и решил составить историю Братовщины. Он и стал записывать коротко все, что связано с селом.
И Петр Николаевич начал рассказывать о том, о чем Вера уже не раз слышала, но она не прерывала его, наверно и потому, что перед ней стопкой лежали тетради, которые прежде она и в руках не держала. Сидела и тихонечко перелистывала первую тетрадь, прадедовскую. А дедушка говорил о том, чего и сам он не видел и видеть не мог, хотя ему не раз казалось, что он не только помнил, но и пережил то время, те события, о которых вот так же и ему рассказывал его отец. Говорил Петр Николаевич медленно, делал продолжительные передышки, однако в речи его были и здравый смысл, и последовательность, и логика:
– Отец мой, Николай Александрович, был доброй души человек, и больше всего на земле любил он Церковь и семью. Был он, кроме всего, церковный староста и на клиросе пел. И всегда сожалел, что не смог стать священником… Потому и хотел, чтобы я во что бы то ни стало выучился на клирика. С малых лет я бывал у Бориса и Глеба как дома: пел с отцом в хоре, прислуживал алтарником и готовился у отца диакона к поступлению в духовное училище. Так все и получилось бы, да помешала война. В 1914 году отца мобилизовали. Перед отправкой на фронт он уединился со мной и сказал памятные на всю жизнь слова…
Ему казалось, он говорил и говорил… Однако Петр Николаевич молчал – долго и как-то затаенно, и когда Вера уже хотела окликнуть его, он вдруг всхрапнул – и потекла по комнате песня спящего человека.
«Вот и хорошо, – подумала Вера, – пусть отдохнет – он ведь теперь как ребенок, ночь со днем путает».
Тетради были объемистые, разного формата – всего десять. И только первая тетрадь, прадедова, походила на старую медицинскую карту, к которой подшивали, подшивали листки, и в конце концов она превратилась в разбухший потрепанный сборник.
«Дедушка еще поживет», – подумала Вера. Вздохнула, пододвинула настольную лампу и взялась за вторую тетрадь, первую дедушкину, чтобы найти те «памятные на всю жизнь слова». И ведь нашла, и даже очень скоро:
«Вот, Петруша, – помню, сказал мне тятенька, – теперь в семье ты голова – старший мужик, никуда не денешься. А я, как чувствую, сынок, не возвернусь с войны. Батюшка отец Василий говорит: дело крайнее началось – сатана свое войско поднял против православной веры… По грехам нашим – доблудились, добрехались. Теперь только успевай отпевать. И это надолго. Не знаю, устоит ли Россия, наверно, не устоит. Но бесы все одно власть возьмут: веру, церкви, Россию разрушать станут. И кто устоит – устоит, а нет – сотрут с лица земли. Каждый дом, каждый клочок земли, каждое село и церковь отстаивать, защищать надобно. Вся жизнь будет – устоять. А евонную армию так просто не осилишь: только с крестом, только на земле, только в своей крепости и можно устоять. Из села не уезжай, не уходи, даже если гнать будут; веру не продавай, от веры не отрекайся; трудись всегда честно, а если что отбирать станут – сам отдай; храни семью и веру… Батюшка говорит – это только начало, потом брат на брата пойдут… Пока есть возможность – учись. Наука не помешает. – Отец из рук в руки сунул что-то, завернутое в тряпицу. – Сохрани, авось понадобится. Тут я по Братовщине бывало записывал, захочешь – продли. Интересно знать, что было полвека назад: вот и узришь, куда сатана правит… Семья и Церковь – главное. А село – наше отечество. Вот за это я и лягу. – Отец обнял меня и заплакал. И ведь угадал – как в воду глядел, уже через месяц погиб…» «Что же он такое особое наказывал? – вяло думала Вера. – Учиться… какое-то училище или техникум дедушка все-таки окончил. В школе работал, малышей учил. Не оставлять село… Не оставил. Только и покидал, когда на войну уходил. Не изменять вере… Не изменил. Все так.» Однако трудно было понять, и она не понимала, что же так всякий раз волновало деда, когда он вспоминал своего отца и последний его наказ. «Нет, читать надо с начала, иначе и не поймешь…»
Тетрадь первая (записал Н.А. Смолин)
Братовщина – село; земский участок 1; стан 1; призывной участок 2; следственный участок 1; врачебный участок 1; мужского населения 264; женского населения 282; расстояние от уездного города 15 верст; дворов крестьянских 76; церковь 1, Бориса и Глеба» – вот это и надо было мне записать для переписи, что я и сделал, к сему приложив список селян.
Хотел узнать, когда началась Братовщина и почему село назвали Братовщиной. Но ни батюшка, ни старики ничего толком не знают и не помнят. Говорят, Братовщина была всегда…