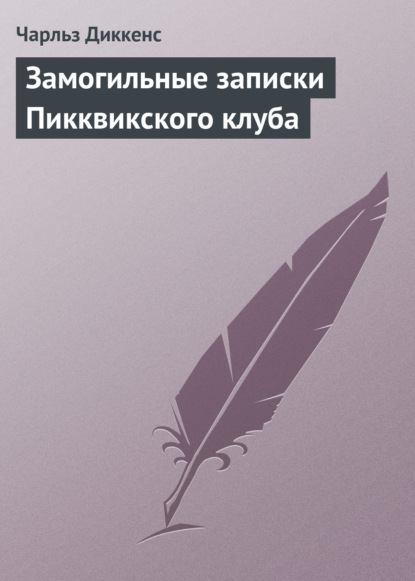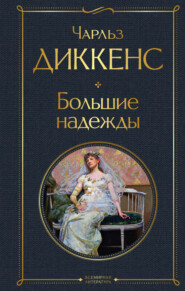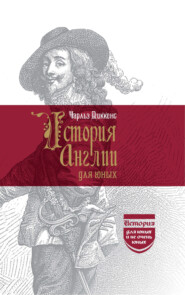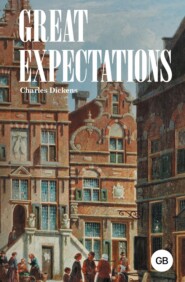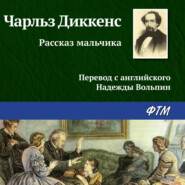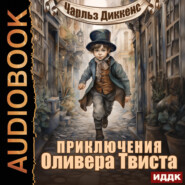По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Замогильные записки Пикквикского клуба
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Да; но уж насчет этого вы потрудитесь обратиться к нашему почтенному другу, – отвечал м?р Уардль, указывая на пастора.
– Не могу ли я, сэр, просить вас об одолжении прочесть нам эту песню? – сказал м?р Снодграс.
– Почему же нет? очень можете, – отвечал пастор, – только я должен наперед объяснить, что песня написана еще в первой молодости, когда я только-что поступил на это место. Всего два куплета, без соблюдения даже стихотворных правил: вы отнюдь не будете ею довольны, сэр.
– Совсем напротив, вы сделаете всем нам величайшее удовольствие.
– Если так, извольте, я готов повторить перед вами произведение своей юности.
Смутный говор любопытства пробежал по всей гостиной, и почтенный пастор, после предварительных совещаний с женою, начал таким образом:
– Песня моя, господа, называется:
Зеленый плющ
Люблю тебя, зеленый плющ,
Что вьешься под руиной храма!
Отборный корм готов тебе
В развалинах веков протекших.
Камням и стенам должно пасть
В угоду зелени прекрасной,
И будет там веселый пир
Тебе в их плесени и пыли!
Где все мертво, где жизни нет –
Цветет и вьется плющ зеленый.
Исчезнут люди и пройдут века,
Погибнут целые народы;
Но не увянет вечный плющ
На гробовых плитах и камнях.
И будет он, среди могил,
Свидетель памяти минувшей,
И странника приютит он
Под зеленью своей тенистой.
Где все мертво, где жизни нет –
Цветет и вьется плющ зеленый.
– Прекрасно, прекрасно! – воскликнул м?р Снодграс в порыве поэтического воодушевления. – Как хороша идея – кормить отборную зелень развалинами веков минувших! Ведь это, я полагаю, должно понимать в аллегорическом смысле?
– Разумеется, – отвечал пастор.
– Могу ли, с вашего позволения, украсить свой путевой журнал произведением вашей музы?
– Сделайте милость!
– И вы продиктуете?
– Извольте.
После диктовки стихотворение еще раз было прочтено для исключительного наслаждения м?ра Пикквика, который, в свою очередь, нашел, что стихи были превосходны во всех возможных отношениях. Тетушка заметила, однако ж, и весьма справедливо, что отсутствие рифмы несколько уменьшает достоинство «Зеленого плюща», но м?р Снодграс объяснил весьма удовлетворительно, что рифма, собственно говоря, изобретена в продолжение средних веков, и что, следовательно, без неё легко обойтись в девятнадцатом веке.
– Позвольте спросить вас, сэр, – сказал м?р Пикквик, – мне, однако ж, очень совестно… знакомство наше началось так недавно…
– Что такое? Пожалуйста, без церемоний, – отвечал обязательный пастор, – я весь к вашим услугам.
– Я полагаю, в продолжение своей жизни, посвященной высокому служению на пользу человечества, вы должны были видеть множество сцен и событий, достойных перейти в потомство.
– Вы угадали: я был свидетелем многих приключений, но характер их вообще скромен и односторонен; потому что круг моих действий всегда был крайне ограничен.
– Мне кажется, вы хорошо помните историю Джона Эдмондса, если не ошибаюсь, – сказал м?р Уардль, желавший, по-видимому, расшевелить своего друга в назидание столичных гостей.
Пастор слегка кивнул головою в знак согласия и хотел свести разговор на другие предметы: но м?р Пикквик поспешил его прервать:
– Прошу извинить, сэр, мне бы хотелось знать: кто такой был Джон Эдмондс?
– Вот этот же вопрос хотел и я предложить вам, сэр, – торопливо сказал м?р Снодграс.
– Это значит, почтенный друг, что вам надобно удовлетворить любопытство этих джентльменов, и чем скорее, тем лучше, – сказал веселый хозяин, – собирайтесь с духом и рассказывайте.
Пастор улыбнулся, кашлянул и подвинул свой стул. Остальные члены веселой компании, со включением м?ра Топмана и девствующей тетки, неразлучных спутников во весь вечер, также придвинули свои стулья и сформировали правильный полукруг по обеим сторонам будущего рассказчика. Когда, наконец, приставили слуховой рожок к правому уху старой леди и ущипнули за ногу м?ра Миллера, успевшего заснуть в продолжение чтения стихов, почтенный пастор, без всяких предварительных объяснений, начал свою назидательную повесть, которую, с позволения читателя, мы должны будем озаглавить просто:
Возвращение на родину.
«Когда я первый раз поселился в этой деревне, – этому уже слишком двадцать пять лет, – самым замечательным лицом между моими прихожанами был некто Эдмондс, арендатор небольшой фермы. Был он человек угрюмый, сердитый, суровый, жестокий, словом сказать, злой человек, с зверскими привычками и нравами. Кроме двух-трех ленивцев и забулдыжных бродяг, с которыми он таскался по полям или бражничал в харчевнях, у него не было знакомых и друзей. Все боялись арендатора Эдмондса, все презирали его и никто не хотел иметь с ним никаких сношений.
Были у него жена и один сын, которого застал я мальчиком двенадцати лет. Трудно вообразить, не только передать словами, ужасные страдания бедной женщины, её безусловную покорность судьбе и ту мучительную заботливость, с какою воспитывала она своего сына. Прости меня Бог, если предположения мои имели оскорбительный характер; но я твердо верил и был нравственно убежден, что этот человек систематически губил свою жену и злонамеренно рассчитывал свести ее в преждевременную могилу. Все терпела, все переносила бедная женщина ради своего детища и, что всего страннее, ради его безжалостного отца, потому что было время, когда она любила его страстно, и воспоминание о счастливых днях пробуждало в душе её чувства кроткие и сладостные, чуждые для всех созданий в этом мире, но не чуждые и вполне понятные только женскому сердцу.
Они были бедны. Иначе и не могло быть, когда глава семейства погрязал в мрачной бездне разврата; но жена трудилась изо всех своих сил, вечером, и утром, в полдень и полночь: нищета не смела закинуть скаредную ногу за порог арендаторской семьи. Неутомимые труды её вознаграждались слишком дурно. Случалось очень часто, прохожий в поздний час ночи слышал рыдания и стоны бедной женщины под ударами её мужа, и нередко бесприютный мальчик, в глубокую полночь, стучался в дверь соседнего дома, куда посылала его мать, чтоб спасти его от дикой ярости пьяного отца.
Во все это время несчастная страдалица постоянно посещала нашу маленькую церковь, где нередко прихожане замечали на её лице багровые пятна – свежие следы бесчеловечного тиранства, которых, при всем усилии, она не могла скрыть от любопытных взоров. Каждое воскресенье, поутру и ввечеру, видели ее на одном и том же месте с её маленьким сыном, одетым чисто и опрятно, хотя в бедном платье. Все и каждый спешили приветствовать ласковым словом „добрую м?с Эдмондс“, и, бывало, иной раз, страдальческие черты её озарялись чувством искренней признательности, когда она, по выходе из церкви, вступала в разговор с добрыми людьми, принимавшими участие в её положении, или когда она, с материнскою гордостью, останавливалась полюбоваться на своего малютку, который между тем резвился с товарищами под тенью тополей и лип церковной ограды. В эти минуты м?с Эдмондс бывала спокойна и счастлива.
Быстро пролетели пять или шесть лет. Малютка сделался юношей цветущим и сильным; но время, округлившее его формы, укрепившее его мускулы и члены, согнуло стан его матери, подкосило её ноги. Ничья рука не поддерживала бедной женщины, и не было подле неё лица, способного одушевлять восторгом её сердце. По-прежнему занимала она свою старую ложу в церкви, но уже никто не сидел подле неё. Библия, как и прежде, лежала перед ней и регулярно каждую обедню открывалась на известных страницах; но никто вместе с нею не читал священных псалмов, и слезы крупными каплями падали на ветхую книгу. Соседки, как и прежде, встречали ее ласковым поклоном; но она избегала их приветствий и ни с кем не вступала в разговор. Тополя и липы церковной ограды потеряли для неё чарующую силу, и она не думала останавливаться под их тенью. Лишь только оканчивалась служба, бедная женщина закрывалась платком и поспешно выходила из церкви.
Должно ли мне объяснять вам, милостивые государи, что молодой человек, оглядываясь на пройденное поприще жизни, на первоначальные дни своих отроческих и юношеских лет, ничего не мог в них видеть, что бы теснейшим образом не соединялось с длинным рядом добровольных страданий и лишений, которым подвергала себя бедная женщина исключительно для того, чтоб взлелеять и воспитать своего единственного сына? Должно ли объяснять, что, при всем том, молодой человек забыл неимоверные труды, заботы, огорчения, напасти, – забыл все, что перенесла для него любящая мать – связался с отчаянными извергами и вступил, очертя голову, на тот гибельный путь, который неизбежно должен был довести его до позорной смерти? К стыду человеческой природы, вы угадали развязку.
Пробил роковой час, когда бедной женщине суждено было испить до дна горькую чашу последних страданий. Мошеннические проделки беспрерывной цепью следовали одна за другою по всем этим местам, и дерзость тайных извергов, укрывавшихся от правосудия, увеличивалась с каждым днем. Отчаянный разбой среди белого дня усилил бдительность местного начальства, и скоро приняты были решительные меры. Подозрения обратились на Эдмондса и трех его товарищей. Его схватили, заключили в тюрьму, допросили, обвинили, – осудили на смерть.
Дикий и пронзительный крик из женской груди, крик, раздавшийся по судейскому двору, когда прочтен был смертный приговор, раздается до сих пор в моих ушах. Злодей, считавшийся погибшим для всякого человеческого чувства и смотревший с бессмысленным равнодушием даже на самое приближение смерти, очнулся при этом ужасном крике. Его губы, сомкнутые до этого часа упорной немотою, задрожали и открылись сами собою; холодный пот выступил из всех пор его тела: он затрясся, зашатался и едва не грянулся о каменный пол.
При первых порывах душевной пытки страждущая мать бросилась на колени у моих ног, и я услышал из уст её пламенную молитву к Всемогущему Существу, хранившему ее до настоящей минуты среди бесчисленных напастей и скорбей. Согласная на все возможные муки в этой и даже будущей жизни, она умоляла Небесного Творца пощадить юную жизнь её единственного сына. Следовали затем ужасный взрыв тоски и отчаянная борьба, невыносимая для сил человека. Я знал, что сердце её сокрушилось с этой минуты: но ни теперь, ни после ни одной жалобы, ни одного ропота не произнесли её уста.
Грустно и жалко было видеть, как эта женщина каждый день приходила на тюремный двор, как старалась она, убеждениями и мольбами, именем неба и материнской любви, смягчить жестокое сердце своего закоснелого сына. Все было напрасно. Молодой изверг остался упрямым, непреклонным, неподвижным. Смертный приговор неожиданно был изменен на четырнадцатилетнюю ссылку, но и это обстоятельство не образумило злодея.
Дух самоотвержения и любви, поддерживавший так долго слабый организм, не мог до конца устоять против физических недугов. Мать преступника сделалась больна. Еще раз, один только раз, собралась она взглянуть на своего сына; но последние силы оставили ее на тюремном дворе, и она в изнеможении упала на сырую землю.
И теперь поколебалось, наконец, высокомерное равнодушие и холодность молодого человека, и грозно пробил для него час неумолимой кары. Природа потребовала возмездия за нарушение своих правь.
Прошел день – мать преступника не явилась на тюремный двор; еще прошел день – и она не пришла навестить своего сына; третий вечер наступил – ее нет как нет, a между тем через двадцать четыре часа ему должно будет расстаться с нею – вероятно, на всю жизнь. Как сумасшедший бегал он по тесному тюремному двору взад и вперед, как бешеный, хватался за свою голову, лишенную человеческого смысла. О, с какою быстротой нахлынули на его душу давно забытые воспоминания протекших дней!.. С каким ужасным отчаянием услышал он, наконец, роковую весть! Его мать, – единственное создание, связанное с ним узами крови и любви, – лежит на одре болезни, умирает, может быть, на расстоянии одной мили от места, где он стоит. Будь он свободен и не скован – в пять минут быстрые ноги принесли бы его в родительский дом. Он подскочил к железной двери, схватился за болт с энергией отчаяния, рванул, отскочил опять и ударился о толстую стену, в безумной надежде вышибить камни; но стена, как и дверь, издевались над усилиями сумасшедшего человека. Он всплеснул руками и заплакал горько.