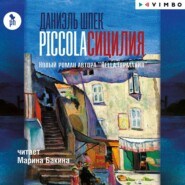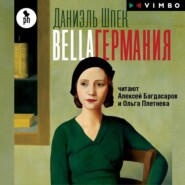По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Piccola Сицилия
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ну а случится со мной беда,
Кто будет здесь стоять тогда
С тобой, Лили Марлен,
С тобой, Лили Марлен.
– Нам надо затаиться, Виктор. Давай завтра просто не выйдем на работу.
– Тогда они будут нас искать, ты не понимаешь? Наберись терпения, farfalla, всего на несколько дней, пока не придут американцы. Ты же помнишь, как бабушка теряла свои очки? Она их ищет по всему дому и созывает на помощь всю родню. А где они оказываются в итоге? На ленточке у нее на шее! – Он засмеялся и взял Ясмину за руку: – Если уж они кого-то ищут, то точно не в своем доме, не у себя под носом.
Она любила тепло его руки, ее уверенную силу. В мире Виктора всегда оставалось место для надежды, и стоило лишь примкнуть к нему, хотя бы мысленно, как все вокруг становилось светлее и легче, ничего не погибало. Виктор не больше других знал, где сейчас стоят американцы и смогут ли они победить немцев, – каждая радиостанция, каждый слух утверждал на этот счет свое, – но он верил в них, как в шансон, который пел с такой убежденностью, что все слушатели воспринимали песню как собственную, правдивую историю.
Виктор принадлежал к счастливым людям, приспосабливающим мир к своим убеждениям, а не наоборот, как большинство. Он действительно всегда находил выход, что бы ни говорили при этом родители, общество или мнимые друзья. Все тяжелое он делал легким. Рядом с Виктором Ясмина и впрямь становилась бабочкой.
* * *
А потом начался забег. Виктор наперегонки с реальностью. Продвижение войск коалиции замерло, они не добрались до города. Их остановила контратака объединенных сил немцев и итальянцев, танки и пикирующие бомбардировщики, к тому же зарядили осенние дожди, дороги развезло, русла рек вздувались за минуты, превращаясь в смертельные ловушки. Союзники увязли в грязи. И новые господа с устрашающей быстротой запустили в Тунисе свой конвейер.
Когда однажды в семь часов утра раздался стук в дверь, Ясмина в испуге очнулась ото сна. Сперва она решила, что это немцы. Но те действовали более ловко. Быстрее. Основательнее. Вместо того чтобы кропотливо выискивать в городе евреев – а евреем был каждый шестой житель, – они переложили эту грязную работу на самих евреев. За дверью стоял старый друг Альберта из еврейской общины. Глаза его были полны стыда за то, что он пришел требовать невозможного от своего брата по вере. Простите меня, но мы должны это сделать, сказал он. Жест доброй воли. Мойше Боргель, председатель общины, сейчас как раз ведет переговоры с немцами. Бей протестует, он говорит: евреи – это мои дети. Но он больше не может нас защитить. Мы должны пойти на сотрудничество.
* * *
Людей они поначалу не потребовали. Только матрацы. Вместе с кроватями. И подушки, и простыни. Вскоре перед домами были выставлены на улицу десятки кроватей, абсурдная картина – дети прыгали на кроватях, пока грузовик не увез. И в тот же день по кварталу поползла отрава раскола: кровати забрали только у евреев, остальных семей это не коснулось. Пока не было слышно ни слова зависти или неприязни, напротив, мусульмане и христиане высказывали солидарность, однако чем громче они это делали, тем больше евреи задавались вопросом: что, теперь так и будет? Ночью, улегшись спать на полу, Ясмина пыталась представить, кто сейчас спит на ее кровати. Голубые у него глаза или карие. Думает ли он о том, чья под ним кровать. И не мучает ли немца совесть. Может, он ее ровесник. Может, он уже убивал. Может, и сам скоро погибнет. Иншалла.
Шепча проклятия, она заснула.
* * *
Потом потребовали радио. Все евреи должны были сдать на главпочтамт свои радиоприемники. Те, чьи фамилии начинались на первые шесть букв алфавита, сдают в субботу с 12 до 20 часов, на следующие семь букв – в воскресенье с 8 до 12. И так далее. Сотни, тысячи приемников громоздились в зале штабелями. Каждый владелец получил квитанцию: после войны ему вернут его аппарат. Все было организовано в строгом бюрократическом порядке, так что многие действительно поверили, что снова увидят свое имущество. Другие попрятали приборы, в первую очередь жители Медины с их старыми домами – лабиринтами из закутков и лестниц в заколдованных переулках, по которым не могла протиснуться машина. В таких домах собирались соседи, чтобы тайно послушать Шарля де Голля по Би-би-си.
Кто не подчинится распоряжениям вермахта, будет строжайше наказан.
Так было написано на плакатах – по-французски, по-итальянски и по-немецки. Но какое предполагалось наказание? Денежный штраф? Тюрьма? Расстрел? Об этом не говорилось: чем меньше знаешь, тем больше чувствуешь себя зависимым от власти произвола. В каждой семье были как пугливые, так и строптивые, а еще были те, кто зарабатывал по несколько су, донося на соседей.
* * *
Затем забрали фотоаппараты и пишущие машинки. Того, что не задокументировано, считай что и не было. Реальность есть только на фотографиях победителей, остальные пусть довольствуются устными пересказами, слухами и сплетнями. Новые хозяева ценили устное меньше, чем напечатанное, а напечатанное слово меньше, чем фотоснимок. Они не подозревали, что арабы с незапамятных времен доверяли не изображениям, а словам, и их истории испокон веку передавались из уст в уста. И что они как никакой другой народ умели читать между строк, были мастерами по части двойного дна и спрятанных сокровищ.
Но самой большой глупостью немцев было то, что свои призывы к населению они не писали по-арабски. Арабы же давно знали, что латинские буквы – буквы оккупантов, потому проходили мимо плакатов с таким же безразличием, с каким научились игнорировать плакаты французов. Мектуб – написанное – считалось действительным только на их языке, языке Священной книги, только это звучание достигало их души.
Узнав об этом, немцы сменили тактику. На каждый вражеский слух, выловленный их прихвостнями, они тут же распускали противослух. Улицы затопили шепотки. Новости курсировали, как фальшивые деньги, черный рынок лжи. Люди учились не доверять слишком очевидному, а правду искать в сокрытом. Однако вскоре и шепоток стал отравленным. И немцы на этом наживались. Мориц знал, что туманные сведения деморализуют сильнее дурных, но определенных вестей. Страх и надежда сменяли друг друга в течение минут, неуверенность разъедала души и отравляла целые семьи.
* * *
Затем они потребовали людей.
* * *
Охота началась в восемь часов промозглого декабрьского утра. Над городом висел туман. Выйдя из пригородного поезда, Ясмина влилась на проспекте де Пари в поток служащих, идущих на работу. К счастью, Виктор еще оставался дома.
Когда Ясмина проходила мимо синагоги, рядом притормозили несколько грузовиков. Вооруженные солдаты попрыгали из кузовов и побежали ко входу. Слышалось стаккато приказов, топот сапог на мокрой мостовой. Прохожие пригнулись, прикрыли головы папками и бросились прочь. Мгновенно воцарился хаос. Ясмина вместе с другими нырнула в переулок, но навстречу маршировало подразделение солдат. Они метнулись назад, на проспект, а там уже вовсю хватали людей. От каждого требовали документы. Если человек оказывался евреем, его уводили.
Некоторые пытались убежать, последовали выстрелы. Солдаты сгоняли евреев на площадку перед синагогой, держали их там под прицелом, как будто то было вражеское войско, а не безоружные служащие, дети и старики. Пытавшиеся скрыться получали прикладом по ребрам. Один уже лежал на земле, капли дождя мешались с его кровью. Ясмина дрожала всем телом, когда показывала свой документ. Солдат что-то пролаял и жестом отогнал ее. Она поняла, что их интересуют только мужчины. Она кинулась прочь со всех ног.
* * *
Латиф уже стоял перед отелем и быстро провел ее внутрь. В отеле было пусто, все немцы, должно быть, участвовали в операции. Из служебки консьержа Ясмина позвонила отцу:
– Папа?, ни в коем случае не выходи в город! И Виктору скажи, пусть сидит дома!
– Почему, что случилось?
– Они устроили облаву. Хватают всех еврейских мужчин.
– Где?
– Перед синагогой.
– Ты видела рабби?
– Нет.
– А раненые есть?
– Да.
В ту же секунду она пожалела, что сказала правду.
– Ясмина, оставайся там, где ты сейчас!
– Папа?, нет, не приезжай, слышишь?
Он уже положил трубку. Ясмина проклинала свой язык. Латиф смотрел на нее с тревогой. Она побелела как мел.
* * *
Когда Альберт со своим докторским чемоданчиком подоспел к синагоге, там уже десятки мужчин сидели на корточках под дождем. Некоторые прикладывали пропитанный кровью платок ко лбу или к руке. Два эсэсовца преградили ему путь. Прокаркали что-то, он не понял.
– Doctor! Medico!
Альберт предъявил свое врачебное свидетельство, как будто оно могло дать отпор их оружию, а его благородное ремесло могло противостоять их жестокости. Они отшвырнули его. Альберт глянул на раненых.
– Уходи, спрячься! – прошипел один из них. Альберт узнал своего пациента, торговца золотом Сержа Коэна.
– Еврей? Jiff? – пролаял немец.
Альберт сделал вид, что не понял.
– Удостоверение! Бумаги!
Альберт снова протянул им врачебное свидетельство. Другого документа у него при себе не было. А в этом не указывалась ни религиозная принадлежность, ни национальность. Солдаты передавали это свидетельство из рук в руки. Внезапно из синагоги послышались выстрелы. Солдаты вытолкали наружу мужчину. Альберт узнал Хаима Беллайше, девяностолетнего раввина. За ним следовали офицер СС в черном кожаном плаще и тунисец в костюме и галстуке, возмущенно что-то говоривший эсэсовцу. То был Поль Гец, адвокат и член совета еврейской общины, рослый высоколобый человек в круглых очках, всегда задумчивый и взвешивающий каждое слово – даже теперь, в полном своем бессилии.
Кто будет здесь стоять тогда
С тобой, Лили Марлен,
С тобой, Лили Марлен.
– Нам надо затаиться, Виктор. Давай завтра просто не выйдем на работу.
– Тогда они будут нас искать, ты не понимаешь? Наберись терпения, farfalla, всего на несколько дней, пока не придут американцы. Ты же помнишь, как бабушка теряла свои очки? Она их ищет по всему дому и созывает на помощь всю родню. А где они оказываются в итоге? На ленточке у нее на шее! – Он засмеялся и взял Ясмину за руку: – Если уж они кого-то ищут, то точно не в своем доме, не у себя под носом.
Она любила тепло его руки, ее уверенную силу. В мире Виктора всегда оставалось место для надежды, и стоило лишь примкнуть к нему, хотя бы мысленно, как все вокруг становилось светлее и легче, ничего не погибало. Виктор не больше других знал, где сейчас стоят американцы и смогут ли они победить немцев, – каждая радиостанция, каждый слух утверждал на этот счет свое, – но он верил в них, как в шансон, который пел с такой убежденностью, что все слушатели воспринимали песню как собственную, правдивую историю.
Виктор принадлежал к счастливым людям, приспосабливающим мир к своим убеждениям, а не наоборот, как большинство. Он действительно всегда находил выход, что бы ни говорили при этом родители, общество или мнимые друзья. Все тяжелое он делал легким. Рядом с Виктором Ясмина и впрямь становилась бабочкой.
* * *
А потом начался забег. Виктор наперегонки с реальностью. Продвижение войск коалиции замерло, они не добрались до города. Их остановила контратака объединенных сил немцев и итальянцев, танки и пикирующие бомбардировщики, к тому же зарядили осенние дожди, дороги развезло, русла рек вздувались за минуты, превращаясь в смертельные ловушки. Союзники увязли в грязи. И новые господа с устрашающей быстротой запустили в Тунисе свой конвейер.
Когда однажды в семь часов утра раздался стук в дверь, Ясмина в испуге очнулась ото сна. Сперва она решила, что это немцы. Но те действовали более ловко. Быстрее. Основательнее. Вместо того чтобы кропотливо выискивать в городе евреев – а евреем был каждый шестой житель, – они переложили эту грязную работу на самих евреев. За дверью стоял старый друг Альберта из еврейской общины. Глаза его были полны стыда за то, что он пришел требовать невозможного от своего брата по вере. Простите меня, но мы должны это сделать, сказал он. Жест доброй воли. Мойше Боргель, председатель общины, сейчас как раз ведет переговоры с немцами. Бей протестует, он говорит: евреи – это мои дети. Но он больше не может нас защитить. Мы должны пойти на сотрудничество.
* * *
Людей они поначалу не потребовали. Только матрацы. Вместе с кроватями. И подушки, и простыни. Вскоре перед домами были выставлены на улицу десятки кроватей, абсурдная картина – дети прыгали на кроватях, пока грузовик не увез. И в тот же день по кварталу поползла отрава раскола: кровати забрали только у евреев, остальных семей это не коснулось. Пока не было слышно ни слова зависти или неприязни, напротив, мусульмане и христиане высказывали солидарность, однако чем громче они это делали, тем больше евреи задавались вопросом: что, теперь так и будет? Ночью, улегшись спать на полу, Ясмина пыталась представить, кто сейчас спит на ее кровати. Голубые у него глаза или карие. Думает ли он о том, чья под ним кровать. И не мучает ли немца совесть. Может, он ее ровесник. Может, он уже убивал. Может, и сам скоро погибнет. Иншалла.
Шепча проклятия, она заснула.
* * *
Потом потребовали радио. Все евреи должны были сдать на главпочтамт свои радиоприемники. Те, чьи фамилии начинались на первые шесть букв алфавита, сдают в субботу с 12 до 20 часов, на следующие семь букв – в воскресенье с 8 до 12. И так далее. Сотни, тысячи приемников громоздились в зале штабелями. Каждый владелец получил квитанцию: после войны ему вернут его аппарат. Все было организовано в строгом бюрократическом порядке, так что многие действительно поверили, что снова увидят свое имущество. Другие попрятали приборы, в первую очередь жители Медины с их старыми домами – лабиринтами из закутков и лестниц в заколдованных переулках, по которым не могла протиснуться машина. В таких домах собирались соседи, чтобы тайно послушать Шарля де Голля по Би-би-си.
Кто не подчинится распоряжениям вермахта, будет строжайше наказан.
Так было написано на плакатах – по-французски, по-итальянски и по-немецки. Но какое предполагалось наказание? Денежный штраф? Тюрьма? Расстрел? Об этом не говорилось: чем меньше знаешь, тем больше чувствуешь себя зависимым от власти произвола. В каждой семье были как пугливые, так и строптивые, а еще были те, кто зарабатывал по несколько су, донося на соседей.
* * *
Затем забрали фотоаппараты и пишущие машинки. Того, что не задокументировано, считай что и не было. Реальность есть только на фотографиях победителей, остальные пусть довольствуются устными пересказами, слухами и сплетнями. Новые хозяева ценили устное меньше, чем напечатанное, а напечатанное слово меньше, чем фотоснимок. Они не подозревали, что арабы с незапамятных времен доверяли не изображениям, а словам, и их истории испокон веку передавались из уст в уста. И что они как никакой другой народ умели читать между строк, были мастерами по части двойного дна и спрятанных сокровищ.
Но самой большой глупостью немцев было то, что свои призывы к населению они не писали по-арабски. Арабы же давно знали, что латинские буквы – буквы оккупантов, потому проходили мимо плакатов с таким же безразличием, с каким научились игнорировать плакаты французов. Мектуб – написанное – считалось действительным только на их языке, языке Священной книги, только это звучание достигало их души.
Узнав об этом, немцы сменили тактику. На каждый вражеский слух, выловленный их прихвостнями, они тут же распускали противослух. Улицы затопили шепотки. Новости курсировали, как фальшивые деньги, черный рынок лжи. Люди учились не доверять слишком очевидному, а правду искать в сокрытом. Однако вскоре и шепоток стал отравленным. И немцы на этом наживались. Мориц знал, что туманные сведения деморализуют сильнее дурных, но определенных вестей. Страх и надежда сменяли друг друга в течение минут, неуверенность разъедала души и отравляла целые семьи.
* * *
Затем они потребовали людей.
* * *
Охота началась в восемь часов промозглого декабрьского утра. Над городом висел туман. Выйдя из пригородного поезда, Ясмина влилась на проспекте де Пари в поток служащих, идущих на работу. К счастью, Виктор еще оставался дома.
Когда Ясмина проходила мимо синагоги, рядом притормозили несколько грузовиков. Вооруженные солдаты попрыгали из кузовов и побежали ко входу. Слышалось стаккато приказов, топот сапог на мокрой мостовой. Прохожие пригнулись, прикрыли головы папками и бросились прочь. Мгновенно воцарился хаос. Ясмина вместе с другими нырнула в переулок, но навстречу маршировало подразделение солдат. Они метнулись назад, на проспект, а там уже вовсю хватали людей. От каждого требовали документы. Если человек оказывался евреем, его уводили.
Некоторые пытались убежать, последовали выстрелы. Солдаты сгоняли евреев на площадку перед синагогой, держали их там под прицелом, как будто то было вражеское войско, а не безоружные служащие, дети и старики. Пытавшиеся скрыться получали прикладом по ребрам. Один уже лежал на земле, капли дождя мешались с его кровью. Ясмина дрожала всем телом, когда показывала свой документ. Солдат что-то пролаял и жестом отогнал ее. Она поняла, что их интересуют только мужчины. Она кинулась прочь со всех ног.
* * *
Латиф уже стоял перед отелем и быстро провел ее внутрь. В отеле было пусто, все немцы, должно быть, участвовали в операции. Из служебки консьержа Ясмина позвонила отцу:
– Папа?, ни в коем случае не выходи в город! И Виктору скажи, пусть сидит дома!
– Почему, что случилось?
– Они устроили облаву. Хватают всех еврейских мужчин.
– Где?
– Перед синагогой.
– Ты видела рабби?
– Нет.
– А раненые есть?
– Да.
В ту же секунду она пожалела, что сказала правду.
– Ясмина, оставайся там, где ты сейчас!
– Папа?, нет, не приезжай, слышишь?
Он уже положил трубку. Ясмина проклинала свой язык. Латиф смотрел на нее с тревогой. Она побелела как мел.
* * *
Когда Альберт со своим докторским чемоданчиком подоспел к синагоге, там уже десятки мужчин сидели на корточках под дождем. Некоторые прикладывали пропитанный кровью платок ко лбу или к руке. Два эсэсовца преградили ему путь. Прокаркали что-то, он не понял.
– Doctor! Medico!
Альберт предъявил свое врачебное свидетельство, как будто оно могло дать отпор их оружию, а его благородное ремесло могло противостоять их жестокости. Они отшвырнули его. Альберт глянул на раненых.
– Уходи, спрячься! – прошипел один из них. Альберт узнал своего пациента, торговца золотом Сержа Коэна.
– Еврей? Jiff? – пролаял немец.
Альберт сделал вид, что не понял.
– Удостоверение! Бумаги!
Альберт снова протянул им врачебное свидетельство. Другого документа у него при себе не было. А в этом не указывалась ни религиозная принадлежность, ни национальность. Солдаты передавали это свидетельство из рук в руки. Внезапно из синагоги послышались выстрелы. Солдаты вытолкали наружу мужчину. Альберт узнал Хаима Беллайше, девяностолетнего раввина. За ним следовали офицер СС в черном кожаном плаще и тунисец в костюме и галстуке, возмущенно что-то говоривший эсэсовцу. То был Поль Гец, адвокат и член совета еврейской общины, рослый высоколобый человек в круглых очках, всегда задумчивый и взвешивающий каждое слово – даже теперь, в полном своем бессилии.