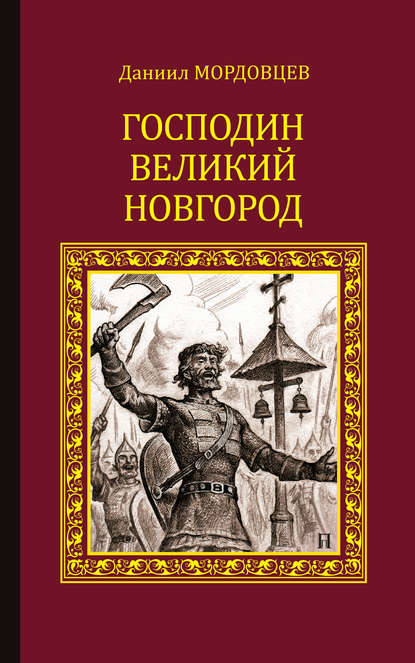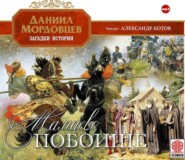По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Господин Великий Новгород (сборник)
Автор
Год написания книги
2016
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Бес в ребре» у Марфы-посадницы
«Самодержавный мужик» осилил сторонников московской руки. Господин Великий Новгород постановил, а на том и пригороды стали, чтоб от московского князя отстать, крестное целованье к нему сломать, как и сам он его «ежегод» сламливал и топтал под нозе, а к великому князю литовскому и королю польскому Казимиру пристать и договор с ним учинить навеки нерушимо…
– Уж таку-ту грамотку отодрал наш вечной дьяк королю Коземиру, таку отодрал, что и-и-и! – хвастались худые мужики-вечники, шатаясь кучами по торгу, задирая торговых людей, да рядских молодцов, да рыбников и зарясь на их добро.
– Да, братцы, на нашей улице нониче праздник.
– Масленица, брательники мои, широкая Масленица! Эх-ну-жги-поджигай-говори!
– Не все коту масляница – будет и Великий пост, – огрызались рядские.
Действительно, на том же бурном вече, по усмирении преподобным Зосимою волнения, вечным дьяком составлена была договорная грамота о союзе с Казимиром и вычитана перед народом, который из всей грамоты понял только одно, им же самим сочиненное заключение, – что с этой поры Москве уже не «черной куны»[49 - Черная куна – вид обложения, взимаемого московским князем.] и никакой дани и пошлины не платит и всякого московского человека можно в рыло, по салазкам и под «микитки»…
– Можно и московским тивунам нониче в зубы…
– Знамо – на то она грамота!
С грамотою этою Господин Великий Новгород отправил к Казимиру посольство – Афонасья Афонасьича, бывшего посадника, Дмитрия Борецкого, старшего сына Марфы, и от всех пяти новгородских концов по житому человеку.
Ввиду всех этих обстоятельств мужики-вечники совсем размечтались. Поводом к мечтаниям служили приехавшие с князем Михайлом Олельковичем «хохлы» – княжеская дружина, состоявшая из киевлян. Все это был народ рослый, черноусый, чернобровый и «весь наголо черномаз гораздо». Они были одеты пестро, в цветное платье, в цветные сапоги, высокие шапки с красными верхами и широчайшие штаны горели как жар. Новгородские бабы были без ума от этих статных гостей, а мужики так совсем перебесились от заманчивых россказней этих хохлатых молодцов. Приезжие молодцы рассказывали, что в их киевской стороне совсем нет мужиков, а есть только одни «чоловики» и «вте» ходят у них так, как вот они, дружинники, – нарядно, цветно и «гарно».
На основании этих россказней худые мужики-вечники возмечтали, что и они теперь, «за королем Коземиром», будут все такими же молодцами: как эти «хохлы», будут ходить в цветном платье и ничего – «ровно-таки ничевошеньки не делать».
– Уж и конь у меня будет, братцы! Из ушей дым, из ноздрей полымя…
– А я соби, братцы, шапку справлю – во каку!.. Со Святую Софию!
Марфа-посадница торжествовала. Ее любимец сынок, красавец Митрюша, был отправлен к королю Казимиру чуть не во главе посольства…
– Млад-млад вьюнош, а поди-на – посольство правит!.. – говорила она своей закадычной «другине» боярыне Настасье Григоровичевой, с которою они когда-то в девках вместе гуливали, а потом, уже и замужем, отай от своих старых, постылых муженьков, с мил-сердечными дружками возжались. – Во каков мой сынок, мое чадо милое!
– А все по теби честь, по матушке, – поясняла ей другиня Настасья. – Ты у нас сокол.
– Какой!.. Ворона старая.
– Не говори… Вон на тебя как тот хохлач свои воловьи буркалы пялит.
– Какой хохлач?.. – вспыхнула Марфа.
– То-то… тихоня… Себе на уме.
– Ах, Настенька, что ты! Не вем, что говоришь.
– Ну-ну, полно-ка… А для кого брови вывела да подсурмилась?
– Что ты! Что ты!.. Для кого?
– А князь-то на что?.. Олелькович.
Марфа еще более загорелась:
– Стара я уж… бабушка.
– Стара-стара, а молодуху за пояс заткнешь.
Как ни старалась скромничать продувная посадница, однако слова приятельницы, видимо, нравились ей. Это была женщина честолюбивая, привыкшая помыкать всеми. Перебалованная с детства у своих родителей еще, как холеное, «дроченое дитя», которое не иначе кушало белые крупитчатые калачи, как только тогда, когда мать и нянюшка, души не чаявшие в своей Марфуточке, уверяли свое «золотое чадушко», что калачик «отнят у заиньки серенького», которое пило молочко только от «коровушки – золотые рога» и спало в своей раззолоченной «зыбочке» тогда только, когда ее убаюкивал и качал какой-то сказочный «котик – серебряны лапки», – потом перебалованная в молодости своею красотой, на которую «ветер дохнуть не смел», а добрые молодцы от этой красоты становились «аки исступленные», перебалованная затем посадником Исачком, за которого она вышла из тщеславия и который «с рук ее не спускал, словно золот перстень», но которым она помыкала, как старою костригою в трепалке[50 - Кострига (кострика) – жесткая кора льна или конопли, остающаяся после их трепания и чесания как нежелательная, – на удалении этой кострики построен автором образ.]; избалованная, наконец, всем Новгородом, льстившим ее красоте, богатству и посадничеству, – Марфа обезумела: Марфе был, что называется, черт не брат! Что-то забрала она себе в свою безумную, с «долгим волосом» голову…
– Уж попомни мое слово: быть тебе княгинею… – настаивала приятельница.
– И точно: княгинею новгородскою и киевскою!
– Почто, милая, киевскою?
– А как же?.. Он, хохлач-то, будет киевским князем, а я с ним…
И Марфа задумалась. Лицо ее, все еще красивое, приняло разом мрачное выражение. Она сжала свои пухлые руки и досадливо хрустнула пальцами:
– Что уж и молоть безлепично!.. Я вить давно и сорокоуст справила.
– По ком, Марфуша? – удивилась Настасья.
– По соби, мать моя.
– Как «по соби»?.. Я не разумею тебя.
– Да мне давно сорок стукнуло… А сорок лет – бабий век!
– Токмо не про тебя сие сказано.
Приятельницы сидели в известном уже нам «чюдном», по выражению летописца, доме Борецких, что стоял на Побережье в Неревском конце и действительно изумлял всех своим великолепием.
Марфа то и дело поглядывала своими черными, с большими белками глазами то в зеркало – медный, гладко отполированный круг на ножке, стоявший на угольном ставце, – то в окно, из которого открывался вид на Волхов. Там шли святочные игрища: ребятишки Господина Великого Новгорода катались на коньках, на лыжах и на салазках, изображая из себя то «ушкуйников», то дружину Васьки Буслаева[51 - Ушкуйники – от названия новгородской ладьи – ушкуй; на ушкуях новгородские, обычно из молодежи, дружины совершали грабительские походы на Низ – на Волгу. Васька Буслаев – герой одноименной новгородской былины – был олицетворением ушкуйничества.], а парни и девки – золотая молодежь новгородская – просто веселилась. Или, по словам строгого старца Памфила, игумена Елизаровой пустыни, «чинили идольское служение, скверное возмятение и возбешение: и в бубны и в сопели играние, и струнное гудение, и всякие неподобные игры сатанинские, плескание руками и ногами, плясание и неприязнен клич – бесовские песни; жены же и девы – и главами кивание и хребти вихляние…»
Такая-то картина представлялась глазам Марфы, когда взор ее из комнаты, где она сидела с своей другиней, переносился на Волхов, ровная, льдистая поверхность коего вся покрыта была цветными массами. Словно бы живой сад, полный цветов, вырос и двигался по льду и по белому снегу… Милая, давно знакомая картина, но теперь почему-то хватавшая за сердце, заставлявшая вздыхать и хмуриться. Картина эта напоминала ей ее молодость, когда и она могла совершать это «кумирское празднование», греховное, «сатанинское», но тем более для сердца сладостное… А теперь уж ни «главою кивание», ни «хребтом вихляние» – не к лицу ей; а если что и осталось еще, так разве «очами намизание» – вон как эта Настя говорит, будто бы она своими красивыми очами заигрывает с «воловьими буркалами» этого хохлача князя…
– Ах, скоморохи! Смотри, Марфуша, в каких они харях! И гусли у них, и бубны, и сопели и свистели разны…
– Вижу. То знамые мне околоточные гудошники.
– Знаю и я их… Еще нам ономедни действо они творили, как гостьище Терентьище у своей молодой жены недуг палкой выгонял… А недуг-то испужался и без портов в окно высигнул.
Приятельницы переглянулись и засмеялись – молодость вспомнили…
В это время в комнату вбежал хорошенький черноглазенький мальчик лет пяти-шести. На нем была соболья боярская шапочка с голубым верхом, бархатная шубка – «мятелька», опушенная соболем же, голубые сафьянные сапожки и зеленые рукавички. Розовые щечки его горели от мороза, а черные как смоль волосы, подрезанные скобой на лбу, выбивались из-под шапочки и кудряшками вились у розовых ушей. За собою мальчик тащил раззолоченные сусальным золотом салазки с резным на передке коньком.
– Баба-баба, пусти меня на Волхов, – бросился мальчик к Марфе.
– Что ты, дурачок?.. Почто на Волхов? – ласково улыбнулась посадница, надвигая ребенку шапку плотнее.
«Самодержавный мужик» осилил сторонников московской руки. Господин Великий Новгород постановил, а на том и пригороды стали, чтоб от московского князя отстать, крестное целованье к нему сломать, как и сам он его «ежегод» сламливал и топтал под нозе, а к великому князю литовскому и королю польскому Казимиру пристать и договор с ним учинить навеки нерушимо…
– Уж таку-ту грамотку отодрал наш вечной дьяк королю Коземиру, таку отодрал, что и-и-и! – хвастались худые мужики-вечники, шатаясь кучами по торгу, задирая торговых людей, да рядских молодцов, да рыбников и зарясь на их добро.
– Да, братцы, на нашей улице нониче праздник.
– Масленица, брательники мои, широкая Масленица! Эх-ну-жги-поджигай-говори!
– Не все коту масляница – будет и Великий пост, – огрызались рядские.
Действительно, на том же бурном вече, по усмирении преподобным Зосимою волнения, вечным дьяком составлена была договорная грамота о союзе с Казимиром и вычитана перед народом, который из всей грамоты понял только одно, им же самим сочиненное заключение, – что с этой поры Москве уже не «черной куны»[49 - Черная куна – вид обложения, взимаемого московским князем.] и никакой дани и пошлины не платит и всякого московского человека можно в рыло, по салазкам и под «микитки»…
– Можно и московским тивунам нониче в зубы…
– Знамо – на то она грамота!
С грамотою этою Господин Великий Новгород отправил к Казимиру посольство – Афонасья Афонасьича, бывшего посадника, Дмитрия Борецкого, старшего сына Марфы, и от всех пяти новгородских концов по житому человеку.
Ввиду всех этих обстоятельств мужики-вечники совсем размечтались. Поводом к мечтаниям служили приехавшие с князем Михайлом Олельковичем «хохлы» – княжеская дружина, состоявшая из киевлян. Все это был народ рослый, черноусый, чернобровый и «весь наголо черномаз гораздо». Они были одеты пестро, в цветное платье, в цветные сапоги, высокие шапки с красными верхами и широчайшие штаны горели как жар. Новгородские бабы были без ума от этих статных гостей, а мужики так совсем перебесились от заманчивых россказней этих хохлатых молодцов. Приезжие молодцы рассказывали, что в их киевской стороне совсем нет мужиков, а есть только одни «чоловики» и «вте» ходят у них так, как вот они, дружинники, – нарядно, цветно и «гарно».
На основании этих россказней худые мужики-вечники возмечтали, что и они теперь, «за королем Коземиром», будут все такими же молодцами: как эти «хохлы», будут ходить в цветном платье и ничего – «ровно-таки ничевошеньки не делать».
– Уж и конь у меня будет, братцы! Из ушей дым, из ноздрей полымя…
– А я соби, братцы, шапку справлю – во каку!.. Со Святую Софию!
Марфа-посадница торжествовала. Ее любимец сынок, красавец Митрюша, был отправлен к королю Казимиру чуть не во главе посольства…
– Млад-млад вьюнош, а поди-на – посольство правит!.. – говорила она своей закадычной «другине» боярыне Настасье Григоровичевой, с которою они когда-то в девках вместе гуливали, а потом, уже и замужем, отай от своих старых, постылых муженьков, с мил-сердечными дружками возжались. – Во каков мой сынок, мое чадо милое!
– А все по теби честь, по матушке, – поясняла ей другиня Настасья. – Ты у нас сокол.
– Какой!.. Ворона старая.
– Не говори… Вон на тебя как тот хохлач свои воловьи буркалы пялит.
– Какой хохлач?.. – вспыхнула Марфа.
– То-то… тихоня… Себе на уме.
– Ах, Настенька, что ты! Не вем, что говоришь.
– Ну-ну, полно-ка… А для кого брови вывела да подсурмилась?
– Что ты! Что ты!.. Для кого?
– А князь-то на что?.. Олелькович.
Марфа еще более загорелась:
– Стара я уж… бабушка.
– Стара-стара, а молодуху за пояс заткнешь.
Как ни старалась скромничать продувная посадница, однако слова приятельницы, видимо, нравились ей. Это была женщина честолюбивая, привыкшая помыкать всеми. Перебалованная с детства у своих родителей еще, как холеное, «дроченое дитя», которое не иначе кушало белые крупитчатые калачи, как только тогда, когда мать и нянюшка, души не чаявшие в своей Марфуточке, уверяли свое «золотое чадушко», что калачик «отнят у заиньки серенького», которое пило молочко только от «коровушки – золотые рога» и спало в своей раззолоченной «зыбочке» тогда только, когда ее убаюкивал и качал какой-то сказочный «котик – серебряны лапки», – потом перебалованная в молодости своею красотой, на которую «ветер дохнуть не смел», а добрые молодцы от этой красоты становились «аки исступленные», перебалованная затем посадником Исачком, за которого она вышла из тщеславия и который «с рук ее не спускал, словно золот перстень», но которым она помыкала, как старою костригою в трепалке[50 - Кострига (кострика) – жесткая кора льна или конопли, остающаяся после их трепания и чесания как нежелательная, – на удалении этой кострики построен автором образ.]; избалованная, наконец, всем Новгородом, льстившим ее красоте, богатству и посадничеству, – Марфа обезумела: Марфе был, что называется, черт не брат! Что-то забрала она себе в свою безумную, с «долгим волосом» голову…
– Уж попомни мое слово: быть тебе княгинею… – настаивала приятельница.
– И точно: княгинею новгородскою и киевскою!
– Почто, милая, киевскою?
– А как же?.. Он, хохлач-то, будет киевским князем, а я с ним…
И Марфа задумалась. Лицо ее, все еще красивое, приняло разом мрачное выражение. Она сжала свои пухлые руки и досадливо хрустнула пальцами:
– Что уж и молоть безлепично!.. Я вить давно и сорокоуст справила.
– По ком, Марфуша? – удивилась Настасья.
– По соби, мать моя.
– Как «по соби»?.. Я не разумею тебя.
– Да мне давно сорок стукнуло… А сорок лет – бабий век!
– Токмо не про тебя сие сказано.
Приятельницы сидели в известном уже нам «чюдном», по выражению летописца, доме Борецких, что стоял на Побережье в Неревском конце и действительно изумлял всех своим великолепием.
Марфа то и дело поглядывала своими черными, с большими белками глазами то в зеркало – медный, гладко отполированный круг на ножке, стоявший на угольном ставце, – то в окно, из которого открывался вид на Волхов. Там шли святочные игрища: ребятишки Господина Великого Новгорода катались на коньках, на лыжах и на салазках, изображая из себя то «ушкуйников», то дружину Васьки Буслаева[51 - Ушкуйники – от названия новгородской ладьи – ушкуй; на ушкуях новгородские, обычно из молодежи, дружины совершали грабительские походы на Низ – на Волгу. Васька Буслаев – герой одноименной новгородской былины – был олицетворением ушкуйничества.], а парни и девки – золотая молодежь новгородская – просто веселилась. Или, по словам строгого старца Памфила, игумена Елизаровой пустыни, «чинили идольское служение, скверное возмятение и возбешение: и в бубны и в сопели играние, и струнное гудение, и всякие неподобные игры сатанинские, плескание руками и ногами, плясание и неприязнен клич – бесовские песни; жены же и девы – и главами кивание и хребти вихляние…»
Такая-то картина представлялась глазам Марфы, когда взор ее из комнаты, где она сидела с своей другиней, переносился на Волхов, ровная, льдистая поверхность коего вся покрыта была цветными массами. Словно бы живой сад, полный цветов, вырос и двигался по льду и по белому снегу… Милая, давно знакомая картина, но теперь почему-то хватавшая за сердце, заставлявшая вздыхать и хмуриться. Картина эта напоминала ей ее молодость, когда и она могла совершать это «кумирское празднование», греховное, «сатанинское», но тем более для сердца сладостное… А теперь уж ни «главою кивание», ни «хребтом вихляние» – не к лицу ей; а если что и осталось еще, так разве «очами намизание» – вон как эта Настя говорит, будто бы она своими красивыми очами заигрывает с «воловьими буркалами» этого хохлача князя…
– Ах, скоморохи! Смотри, Марфуша, в каких они харях! И гусли у них, и бубны, и сопели и свистели разны…
– Вижу. То знамые мне околоточные гудошники.
– Знаю и я их… Еще нам ономедни действо они творили, как гостьище Терентьище у своей молодой жены недуг палкой выгонял… А недуг-то испужался и без портов в окно высигнул.
Приятельницы переглянулись и засмеялись – молодость вспомнили…
В это время в комнату вбежал хорошенький черноглазенький мальчик лет пяти-шести. На нем была соболья боярская шапочка с голубым верхом, бархатная шубка – «мятелька», опушенная соболем же, голубые сафьянные сапожки и зеленые рукавички. Розовые щечки его горели от мороза, а черные как смоль волосы, подрезанные скобой на лбу, выбивались из-под шапочки и кудряшками вились у розовых ушей. За собою мальчик тащил раззолоченные сусальным золотом салазки с резным на передке коньком.
– Баба-баба, пусти меня на Волхов, – бросился мальчик к Марфе.
– Что ты, дурачок?.. Почто на Волхов? – ласково улыбнулась посадница, надвигая ребенку шапку плотнее.