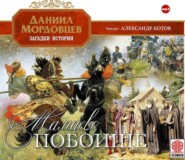По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вельможная панна. Т. 1
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Хотя, по замечанию историографа Елены, такое воспитание девиц аристократических домов и должно было бы казаться странным, но оно приготовляло блистательных хозяек у себя дома и совершенных светских женщин, что для француженок дороже всего.
«Я очень желала, – говорит Елена, – чтобы меня не разлучали с Шуазель и чтобы вместе поместили нас в аптеку. Однако меня определили в «аббатиаль» – игуменское служение, а Шуазель – в депо Девиц. Девиц Конфлян, двадцать пальцев которых ни на что не были способны, определили в ризницу».
Но наша героиня выказала особые таланты, состоя при настоятельнице-игуменье.
«Если бы, – говорит она, – со мною была Шуазель, я считала бы себя очень счастливой в «аббатиале», где аббатиса царствовала со всею мягкостью и справедливостью, какую только можно вообразить себе».
Аббатисой в аббатстве о-Буа, как мы упомянули выше, была в то время Мария-Магдалина де Шабрильян. Прежде она была монахиней в аббатстве де Шелль, потом в аббатстве дю-Парк-о-Дам и, наконец, настоятельницей аббатства Нотр-Дам-о-Буа, наследовав этот высокий сан после госпожи Ришелье, сестры знаменитого маршала.
«Я вошла у нее в милость, – хвастается опять наша маленькая героиня, – она находила, что я осмысленно исполняла все поручения, какие она мне давала. Я была проворна. Когда она звонила, я прибегала всегда первою. Я ведала ее книги, бумаги, ее работу. Это была всегда я, когда она посылала искать то в ее бюро, в чем она имела надобность, то в ее библиотеке или в шифоньерке».
Компаньонки Елены в «аббатиале» были особы приятные, судя по портретам их, которые она нам оставила.
Мадемуазель Шатильон, прозванная Татильон, четырнадцати лет, девица важная, педантка, очень красивая, но малосильная.
Госпожа д'Аво, рожденная Бурбон, которую насильно отдали за старого урода, двенадцатилетняя девочка, миниатюрная, с милым личиком, но глупенькая, хотя и добренькая – совсем дитя.
Мадемуазель де Мюра, названная Жеманкою, восемнадцати лет, красивая, даже прекрасная, остроумная, любезная, но немножко тщеславная.
Мадемуазель де Лораей – очень хорошенькая, спокойная, мягкая, немножко остроумная: она выходит замуж за герцога д'Арембер.
Мадемуазель Маникам, сестра предыдущей, безобразная, добрая, очень остроумная, но жестокая, вспыльчивая.
Не правда ли, что такие ловкие характеристики едва ли способна дать десяти- или одиннадцатилетняя девочка, какою мы представляем нашу милую героиню. Тут видна и наблюдательность, далеко не детская, и умение справиться с тем, что подмечено, и умение выражаться так лаконически.
«Я очень сошлась, – пишет она далее, – с госпожою Сент-Жертрюд и госпожою Сент-Сиприен. Эти обе дамы были очень глупы, вечно смеялись и забавлялись. Мадемуазель Маникам очень способствовала веселости этого общества. Госпожа д'Аво (двенадцатилетняя дама графиня) вполне доверчиво говорила нам, что она сердечно ненавидит своего супруга, над чем мы и потешались беспрестанно, и мы жестоко издевались над ее мужем всякий раз, как он приходил повидать ее, ибо на его несчастье окна настоятельских покоев выходили на двор, так что супруг двенадцатилетнего ребенка не мог избежать наших обидно-коварных взглядов».
И сейчас приведенное нами из «мемуаров» Елены, нам кажется, подтверждает наше предположение, что героиня нашего романа составляла свои записки в более зрелом, чем в десяти-, одиннадцатилетнем возрасте, почему она и говорит обо всем в прошедшем времени: «Я очень сошлась… Эти дамы были… Госпожа д'Аво очень доверчиво говорила нам…» и т. п.
На ту же мысль наводит и следующая выписка из «мемуаров» нашей героини:
«Мадемуазель де Мортмар также состояла при настоятельском „послушании”, и не что, как ее присутствие, заставляло бежать от нас скуку и печаль. Мы очень издевались над госпожой де Торси, доказывая, что она не иначе сделалась монахиней, как потому только, что лишь в одном Иисусе Христе находила достойного себе супруга, и еще не сомневалась ли она, что, выходя за него, совершает мезальянс, выходя за неровню».
Такие злые и удачные остроты не по плечу были бы ребенку, в этом не может быть сомнения.
Еще далее в том же роде:
«Госпожа де Ромелэн, вся напичканная греческим и латынью, тоже забавляла нас Мы называли ее старшей дочерью Аристотеля, но она не сердилась на нас, потому что была очень добра».
И опять – «была», «не сердилась», все в прошедшем.
«Но величайшим нашим удовольствием было – усадить жеманку Мюра за клавесин, тогда она пела, а госпожа де Сент-Жертрюд, которая была чрезвычайно веселая и поразительно подражала, становилась позади ее и передразнивала все ее мины».
Опять отзывается прошедшим и не детской манерой изложения.
«Такие развлечения (как описанные выше) могли быть приятны очень многим; но, что касается меня, я несколько скучала на „послушаниях” в настоятельской. Я не знаю почему, но мне казалось, что этот способ – превращать настоятельскую в „переднюю”, имел нечто утомительное».
Это совершенно не детский взгляд на то, что должно было окружать такую почтенную особу, как настоятельница королевского аббатства о-Буа.
В этом аббатстве был обычай давать во время карнавала балы раз в неделю.
«В такие дни, – говорит Елена, – мы сбрасывали с себя монастырскую форму, и каждая мать старалась нарядить к балу свою дочь как можно элегантнее. В эти дни к нам приходило много светских женщин и особенно молоденьких, которые являясь не одни, предпочитали эти балы светским, потому что они не обязаны были постоянно сидеть около своих мачех».
Но балы эти сопровождались иногда и безобразиями.
Так, наша героиня говорит об одном таком безобразии:
«Однажды госпожа де Люин и госпожа де Рош-Аймон, находясь на бале, отослали свои кареты и спрятались в помещении мадемуазель д'Омон. Когда настала тишина, они подняли адский шум и продолжали всю ночь. Они поразбивали все кружки, которые находились у дверей их кельи, останавливали всех монахинь, отправлявшихся к заутрене, и, наконец, произвели адский колокольный звон. Настоятельница приказала, чтоб им не причинили ни малейшей обиды, но чтоб ничего не подавали им есть и совсем не позволяли бы им выходить. Когда было 11 часов утра, они очень захотели есть, но им приказано было ничего не давать. Тогда они просили, чтоб им отворили дверь, но госпожа де Сент-Жак, которая была главною портьершею, сказала, что все ключи у настоятельницы. Тогда они послали мадемуазель д'Омон просить настоятельницу приказать отпереть дверь. Настоятельница велела им сказать, что они остались в монастыре без ее позволения и не вышли тогда, когда родные их звали».
Понятно, в какое отчаяние пришли светские безобразницы.
Но их ожидали новые неприятности. Госпожа Рошшуар, хорошо изучившая характер своих воспитанниц, опасалась нового скандала, который мог последовать уже со стороны девиц, как бы в отмщение за оскорбление, нанесенное их almae matri.
«Госпожа де Рошшуар, – говорит Елена, – велела со своей стороны сказать дамам (производившим ночные безобразия), чтоб они остерегались попадаться на пути следования воспитанниц, когда они будут идти или возвращаться с мессы или из столовой, ибо она не может отвечать за то, что им не нанесут оскорблений».
И действительно, наша героиня и сознается в этом.
«Правда, мы очень желали, – говорит она, – „укать” на них (кричать: у! у! у!) и издеваться над ними, и хотели даже облить их водой».
Но с великосветскими скандалистками на этом не покончилось.
Скандалистку Рош-Аймон ожидал к обеду ее дядя, кардинал де ла Рош-Аймон, а скандалистку Люин ждала ее мачеха, герцогиня де Шеврез. Но посланным от этих лиц людям велено было сказать, что веселые (не в меру!) барыньки за хорошее поведение задержаны в монастыре…
Прислали за ними во второй раз сказать, что «ждут».
Тогда настоятельница написала герцогине де Шеврез и кардиналу, что и у Люин и у Рош-Аймон головы совсем не в порядке, что поэтому она может сдать их только на руки родителей.
Обеспокоенная герцогиня тотчас явилась в аббатство, где жесточайшим образом и намылила голову своей падчерице. Ей и отдали обеих пленниц, которые и сочли себя жестоко оскорбленными.
Они же и оскорбились! Такова великосветская логика…
Приютившая же их в своем помещении в ту злополучную ночь девица д'Омон извинялась тем, будто она не знала, что эти дамы спрятались в ее комнатах, но ясно было, что они все сговорились.
Но вот новый скандал на почве любовной интриги.
«Случилась громкая история на другом балу», – пишет наша героиня.
Тут из ее слов видно, что писалось это, когда она была уже в «красном» классе.
«Мадемуазель де Шеврез нашла записку, – пишет Елена, – в которой назначалось свидание виконтессе де Лаваль, которая была на балу и уронила записку. В записке значилось: „Вы обожаемы, дорогая моя виконтесса, положитесь на мою скромность и верность. Завтра в тот же самый час и в том же самом доме”. Найдя записку, девица де Шеврез прочла ее и положила к себе в карман. После бала она показала ее всему „красному” классу. Тогда мы вообразили, что это ей писал тот господин. Наставница, узнав о записке, выразила желание получить ее, и мы думаем, что записка была передана госпоже де Лаваль, потому что она уже не являлась на наши карнавальские балы».
Эта история имела дальнейшие последствия, о которых мы узнали не от нашей героини, а от ее историографа, почтенного Люсьена Перея.
Два года спустя после оброненной на бале любовной запис-ки громкого шуму наделал в Париже некий афронт, который потерпела госпожа де Лаваль. Она представлена была к получению высокого назначения сопровождать королеву. Хотя это место и было ей обещано, но она не могла его получить, потому что этому воспротивился де Лаваль. Господин де Лаваль, первый королевский дворянин, был дедушкой той барыньки, которая уронила на балу компрометирующую его имя записку, и наказал ее, не допустив до высокого положения при дворе. Тогда фамилия Монморанси подняла страшный крик в обществе, потому что госпожа де Лаваль была дочерью господина де Булона, главного откупщика. Но после рассказанной нашей героиней истории с любовною запискою на балу и был найден предлог не дать места около королевы такой неосторожной особе, которая роняет на балу любовные записки.
Побывав в свите настоятельницы, наша героиня переведена была на другое «послушание», в ризницу.
«В ризнице, – говорит Елена, – было очень забавное общество. Что же касается самих „занятий”, то они мне совсем не подходили, потому что я всегда чувствовала невероятное отвращение к работе (понятно – плясать веселей). На этом „послушании” находились особы чрезвычайно любезные, и между прочим – девица де Брои и девица де Парои, с которой я очень сошлась, и девица Дюфор, которая была очень веселая и добрый товарищ. Де Парои была хорошенькая, стройненькая и играла на арфе, как ангел (хотя едва ли кто слышал игру на арфе ангелов). Ей было двенадцать лет. Де Брои, несколько постарше, была довольно красива и полна остроумия».