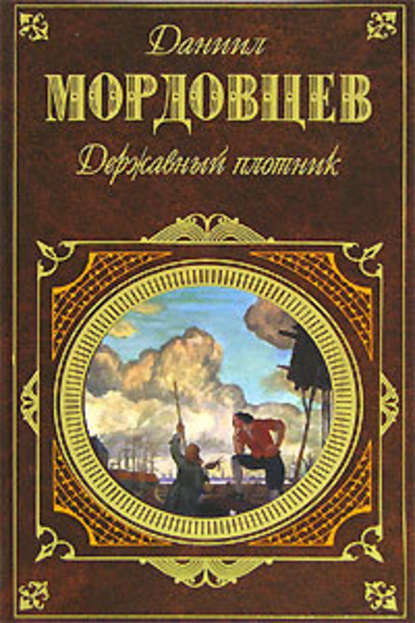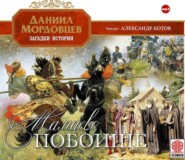По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Доктор сам испугался своего вопроса, когда взглянул на девушку, она, казалось, должна была упасть.
– Вам дурно? Ради Бога, что с вами?
– Ничего... я вам все скажу, – как-то торопливо отвечала девушка. – Я заразила няню, я заразила всю Москву, от меня пошла эта страшная болезнь.
Доктор испугался. Он думал, что перед ним несчастная, помешавшаяся от горя. Он сразу не нашелся, что сказать.
– Грачев привез медальон, образок от него, – все также торопливо продолжала девушка. – В образке его волосы. Грачев от больного отрезал локон. Няня целовала их. От няни заразилась семья сторожа у Николы в Кобыльском и тот купец, что нашли на улице у Власия. Больную няню племянник ее, суконщик, свез на Суконный двор. Оттуда и пошла зараза. От меня. Меня надо сжечь.
Доктор схватил девушку за руку. Рука была холодна, как y мертвеца.
– Ради Бога, успокойтесь, – едва выговаривал от волнения доктор. – Как же вы сами? Где же эти несчастные волосы?
– У меня на груди.
– И вы прикасались к ним?
– Нет... Я поклялась отцу и брату не дотрагиваться до них и не видеть их до смерти. Образок закрыли, его окуривали, обмывали...
Доктор задумался, продолжая держать руку девушки, как бы стараясь отогреть ее в своей руке.
– Я буду у вас, я поговорю с вашим батюшкой об этом деле, – говорил он, сильно пожимая маленькую холодную ручку. – А теперь вы шли в церковь?
– Да. Я хотела... Я... – Девушка замялась и вспыхнула: детский румянец на бледных щеках и детское выражение стыдливых глаз выдали какую-то тайну, что-то недосказанное. Девушка, видимо, решалась на что-то серьезное, не детское, но еще не решилась, не осилила себя. Доктор понял это,
– Я скоро буду у вас, – сказал он. – А вы, девочка милая (он взглянул ей в глаза своими добрыми глазами), вы забудьте вашу «Пахонину» (у девушки задрожали губы при этом напоминании), ей пора было на погост. А пока держите клятву, данную отцу, не заглядывайте в медальончик, а главное, не решайтесь пока ни на что (доктор сделал ударение), не поговорив с батюшкой или со мной. Ведь я вас, милая девочка, когда-то на руках носил. Бывало, кричите мне навстречу: «На меня, дядя Кистяк, на, на ручки». Так-то, милая девочка. А теперь прощайте.
Он крепко пожал ей руку и направился к своему вознице. Девушка вошла в церковь.
VIII. «ДЕВОЧКА ЗАБРАЛА СЕБЕ В ГОЛОВУ»
– А девочка-то забрала себе что-то в головенку, – бормотал сам с собой веселый доктор, торопя своего возницу скорее везти его в контору государственной медицинской коллегии.
Действительно, девочка забрала себе в голову...
– Скорее бы к нему! – шептала она, томясь в горячей от ее пылающего тела постели в продолжение всей длинной, мучительной зимней ночи.
Всю ночь она порывалась открыть ужасный образок и поцеловать убийственный локон милого, чтоб сейчас и умереть тут, задохнуться, захлебнуться отчаянием и горем. Несколько раз она даже вскакивала с постели с этим безумным решением, но тотчас же, как босые ноги ее касались холодного пола, приходила в себя, вспоминала, что на этом самом образке поклялась она брату именем того, для кого она хочет умереть – хотела бы сейчас! – поклялась в том смысле, что если она изменит этой клятве, то это будет измена ему самому, его памяти, его чувству, и, вспомнив все это, она со стоном прикладывала образок к горячей груди и плакала, плакала.
Эти молодые слезы и спасли ее. Утомленная ими, наплакавшись до истомы, до потери возможности стройных представлений, она к утру уснула таким крепким, мертвецким сном, который скорее можно назвать не мертвецким, а сном жизни, здоровья, каким может только спать чистая и здоровая телом и духом молодость.
Но когда через несколько дней она неожиданно узнала, что няня действительно умерла где-то, когда по осмотре тела умершей отцом и братом Ларисы, которые оба были медики, оказалось, что старушка умерла точно от моровой язвы, от чумы, когда потом до девушки стали доходить слухи о том, что эта ужасная болезнь поселилась на Суконном дворе, именно там, где умерла Пахомовна, а затем стала хватать жертвы по городу, опять-таки по прикосновенности к Суконному двору и его рабочим, девушка пришла к страшному убеждению, что она явилась тут невинно тою ужасающею мир десницею гневного Бога, которая налегла теперь на ее родной город, спустившись с небес моровою тучею...
К личному горю ее присоединилось теперь это ужасное сознание, от которого нельзя было не содрогаться. Она увидела себя в центре какого-то страшного кладбища, где из всех гробов вставали мертвецы и указывали на нее, на ее грудь, на которой хранилось что-то ужасающее, но ей все же дорогое. Казалось, вся жизнь превращалась для нее в одно кладбище, кругом мертвецы, а она одна только живет, хотя чувствует, что не должна жить.
И брат, и отец, которого она очень любила, но которого, вечно занятого больными в своем госпитале, она редко видела, по-видимому, избегали с ней разговоров о том, что делается в городе. Отец, впрочем, когда брат, после смерти няни, рассказал ему историю с образком и волосами, хотя и успокоил ее, что, быть может, образок тут ни при чем, однако осмотрел его и окурил; но не имея сил ни в чем отказать своей любимице, хотя и не уничтожил его, тем не менее запер в ее шкатулку, а ключ спрятал у себя.
С каждым днем девушка все более и более убеждалась, что в городе очень не ладно. Все это еще более сгущало тот страх, который налег ей на душу. Она буквально не находила себе места, стала молиться, но и молитва не приносила ей ни утешения, ни облегчения: на душе оставался все тот же мрак... Да и о чем она могла молиться? Как? Просить? Но о чем? Ей не о чем было просить. Жаловаться? Но на кого, на что, а главное, кому? Плакать перед образами, до утомления биться об церковный пол, об пол своей маленькой спальни? Она плакала, не чувствуя облегчения, и колотилась об холодный каменный помост церквей; но и в сердце, и в голове оставалось все то же...
Раз отец, видя ее тоскующей, молчаливой, не вытерпел, заговорил с нею за утренним чаем:
– Бедный мой ребенок! Все о нем думаешь?
– Нет, папа, не думаю.
– Как же не думаешь? Али я не вижу?
– Я сама не знаю, папа.
– Ну, тоскуешь, в душе сохнешь, это еще хуже. Я понимаю это, моя бедненькая: я сам то же испытывал, когда умерла твоя мать. Ведь мы с нею только два года жили. Тебе пошел второй годок, как она скончалась, а Саня только родился. Ну, я и обезумел было от горя, забыл даже про вас. Только покойница Пахомовна напоминала мне о вас. Тебе и «Пахонину» жаль, дружок?
– Да, папа, жаль.
– Ну, вот что, «Пахонина», иди-ка лучше ко мне на руки, я кой-что скажу тебе, – ласково привлек он к себе свою любимицу.
Девушка повиновалась и, обхватив руками шею отца, заплакала. Ей даже показалось, что эти слезы как будто в первый раз облегчают ее.
– Ну, ничего, ничего, моя «Пахонина» бедненькая, – шептал отец, гладя черную головку дочери. – Поплачь немножко... А ты давно видела свою «курносенькую беляночку»?
– Какую, папа? – спросила девушка, продолжая сидеть на коленях у отца и смутно чувствуя, что это первое и единственное кресло, сидя на котором она в первый раз почувствовала что-то похожее на облегчение.
– А «Белая березонька?» – отвечал он, улыбаясь.
– А... Настя... Я давно не видела ее. Забыла...
– Как забыла, дурочка?
– Я все забыла, папа. – И девушка снова заплакала.
– Ну, ладно... А все бы сходила к своей «Белой березоньке», поразмыкалась бы. Да?
– Да, схожу, папа.
– Ну, и ладно.
«Курносенькая беляночка» тоже ждала кого-то из армии... Она не знала только, что этот кто-то тоже рвался увидеть кого-то да опять бы в «сенцах» встретиться, как и тогда.
...Ночь была летняя, светлая. Сирень так хорошо пахла. В соседнем саду так без толку неугомонно почему-то щелкал соловей – верно, просто по глупости щелкал и вовсе не хорошо щелкал, как и все соловьи; но всем почему-то казалось, что он хорошо щелкает, по душе и по нервам щелкает, и все слушали его, украдкой поглядывая, молодые сержантики на молодых барышень, молодые барышни, с величайшее осторожностью, на молодых сержантиков. Ну, одним словом, пустяки: молодая глупость и молодое счастье, счастье неведения, но такое хорошее это глупое молодое счастье... И соловей глупо щелкает, и сирень глупо пахнет, а хорошо всем. Говорили молодые сержантики о том, что скоро война с турками будет, что их, вероятно, пошлют на войну. Молодые сержантики говорили, а у молодых барышень сердца немножко сжимались, ну, понятно, по глупости...
Потом молодые сержантики стали прощаться с молодыми барышнями, уходя из палисадника. Всем нужно было проходить темными «сенцами», вот тут-то и являются эти «сенцы». Ох, уж эти темные «сенцы»! Выходя из палисадника и вступая в сенцы, один молодой сержантик почему-то, конечно, по глупости, все держался около «курносенькой беляночки», а «беляночка» почему-то, опять тоже по глупости, незаметно – будто бы незаметно!– держалась около этого черномазого сержантика... В «сенцах» они нечаянно еще более приблизились друг к другу, потому темно, ничего не видать, и ах! Нечаянно, конечно, нечаянно, ненароком, руки их встретились в темноте и нечаянно, да так-то быстро, судорожно пожали одна другую, и только. Ведь глупость это, пустяки ужасные; ан нет, для них не пустяки. Между ними не было ни одно еще слово сказано такое, которое показало бы, что... и так далее... Были только взгляды, метанье искр – но что такое это метанье издали! Вздор! А тут не издали, тут руки нечаянно встретились в темноте, и лапища молодого, но здоровенного сержантика по-медвежьи сцапала пухленькую ручку «беляночки», которая, в свою очередь, словно лапочкой котенка, пожала сухую, жилистую лапищу сержантика. Вот и все! А поди ты: эти «сенцы» гвоздем засели в памяти глупых детей. Под рокот и гул ядер, под свист пуль, под стоны раненых там, в Турции, молодому сержантику вспоминались эти «сенцы» и это глупое щелканье соловья, да и «беляночке» тоже. Глупые дети!
А тут новое что-то, страшное висит над Москвой. Чаще и чаще раздаются в московских церквах звоны «на отход души». Каждое утро по всем церквам слышатся душу надрывающие перезвоны «на вынос», «на погребение».
Лариса исполнила совет отца. Напоив его и брата чаем, она проводила их за ворота: отец отправился в свой госпиталь, к своим обычным занятиям, а брат ее Саня в лекарскую школу, где он учился, избрав по своей собственной склонности ремесло отца, медицину.
Проводив их, Лариса заказала кухарке обед, с тем чтобы на жаркое была телячья печенка, «папочка ее любит», сделала необходимые распоряжения по хозяйству и велела, кроме того, Клюкве (так звали девочку, прислуживавшую Ларисе, за ее необыкновенно красные щеки) сбегать к обеду за грушевым квасом, до которого папочка тоже был большой охотник.
– В Сундушный ряд, барышня? – весело спросила девочка.