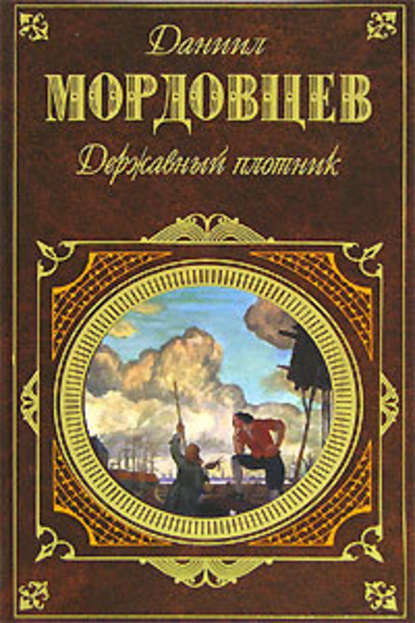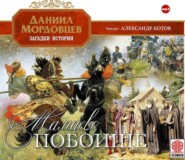По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Державный плотник
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А! Отец-катехизатор! – радушно улыбается Амвросий входящему в келью священнику в темно-малиновой рясе. – Ну, что в городе, отец-катехизатор?
– О! В городе страх и трепет, владыко. Не приведи Бог видеть, неизглаголанное нечто творится, ужаса преисполненное.
– Спаси, Господи, люди твоя... спаси, – как бы машинально повторял Амвросий.
– Отвратил Господь лицо от людей своих.
– Не говори этого, отец-протоиерей. Теперь именно, может быть, сердце Господне яко воск от огня таяй. Теперь только молятся люди, стучатся в сердце Господне... – тихо сказал Амвросий.
– Молиться, владыко, некому, некому в сердце Господне стучаться.
– Как некому?
– Иерейство погибает, почти все попы повымерли или болеют.
– Разве не исполняется мое «наставление»? – озабоченно спросил Амвросий.
– Исполняется, ваше преосвященство.
– У всех ли церквей оно вывешено при входах?
– Надо полагать, владыко, у всех... Сам я видел, проезжая сюда, как народ толпится около них, слушая чтение грамотных.
Амвросий беспокойно заходил по келье. Опять глаза его с какой-то тоской упали на портрет Петра Могилы, потом перенеслись на кроткий лик Спасителя в терновом венце, как бы следившего за ним из глубины киоты.
– Он смотрит на нас, – указал Амвросий на киоту. – Ему, молившемуся ночью о чаше, понятны наши скорби... Прискорбна, прискорбна душа наша до смерти.
Отец-катехизатор перенес глаза на киоту. Да, смотрит, кротко смотрит божественный лик. Он все видит.
– Да, – как бы отвечая на мысли отца-катехизатора, сказал Амвросий. – Он видит, что чаша еще не переполнена.
– Переполнена, владыко, через край изливается!
У катехизатора до сих пор из головы не выходит потрясающая душу картина, которой он был свидетелем. Сегодня утром приходит к нему студент университета, один из любимейших слушателей, только что возвратившийся, после вакаций, из деревни к началу лекций. Какие тут лекции! Все профессора разбежались, университет заперт, а сторожа мрут, скоро некому будет и университет стеречь, одни собаки остаются, да и те вон сегодня забрались в библиотеку и выволокли оттуда труп библиотечного сторожа и с голоду пожирали его. Приходит к отцу-катехизатору студент и умоляет его поспешить к нему на квартиру с святыми дарами напутствовать хозяев квартиры, где он жил, больны-де все опасно... Идет отец-катехизатор за студентом, торопится, приходит на двор... Окна открыты, потому душно в городе, дышать нечем, и мостовые и железные крыши домов накалены, да еще смрад такой стоит над городом, дым от кадил и свечей, и курева. Входят в сенцы, на полу ничком, крыжом каким-то, распростерт труп, это хозяин: не дождался напутствования, отошел амо... камо? О, Господи! Перешагнули через покойника, покойник лежал ничком, а то хоть и кверху носом, до страшного суда. А за что судить? Перешагнули через покойника, торопятся в горницу, там, слышно, ребенок плачет. Входят. На полу, разметавшись крестом, с откинутой назад головой и растянувшейся на полу на аршин расплетенною косою, лежит молодая женщина, не лежит, а как-то брошена с размаху кем-то, хлобыснулась об пол и лежит, сорочка разорвана на груди, верно в муках, в жару смерти. Голые груди торчат, словно вздулись, и к подмышкам посинели. А к этим мертвым грудям льнет ребенок, карабкается, цепляется ручонками, припадает ртом к окоченевшим сосцам, сосет их, а молока нет, какое там молоко? И ребенок с отчаяния закидывает назад головенкой, плачет, ничего не понимая. И тут же, тоже ничего не понимая, на стол взобрался петух, балованный петух, кормили его из рук, вскочил в домик через открытое окно, взобрался на стол и орет во все горло: «Ки-кареку!»
– Да, переполнена чаша, через край льется...
Амвросий все ходил по келье, все поглядывал на Петра Могилу да на лик Спасителя.
– А что у вас в университете, отец-протоиерей? – спрашивает он, как бы думая о чем-то другом.
– Мерзость запустения, владыко. И там смерть царствует, в царстве науки.
– Нет лекций?
– Нету, владыко. И куратор бегу яся... Одни студенты. О! Богом благословенная младость!
– Что, отец-протоиерей? – И глаза Амвросия блеснули отблеском молодости, вспомнилась академия, лавра, Днепр, вечерние песни «улицы», откуда-то доносившиеся до лавры. И этот дорогой, не умирающий голос за лаврскою оградою:
Дадут мени сажень земли
Та четыре дошки.
Свышенники, диаконы
Повелят звонити —
Тоди об нас перестанут
Люди говорити...
Перестали говорить, да, правда. Люди не говорят, так память горькая не переставала... Амвросий опомнился.
– Что молодость, отец-протоиерей?
– Да я, владыко, говорю о наших студентах... Теперь вот университет закрыт, начальство разбежалось, а они сойдутся-сойдутся утром на дворе, толкуют там себе, галдят, об его превосходительстве Петре Дмитриевиче Еропкине с похвалою отзываются да о штаб-лекаре Граве. Да и то сказать, ваше преосвященство, чего требовать от графа, ветх он вельми, батюшка, в гробу обеими подагрическими ногами стоит. Так вот эта молодежь, говорю, погалдят-погалдят на дворе, а смотришь, и пошли по городу отыскивать больных да голодных, да ухаживают за ними, пекутся о них истинно с христианской любовью. Да ко мне и бегут, веселые такие иногда. «Отец-катехизатор! – говорят, – поставьте такому-то optime на экзамене, он-де пятерых от смерти отнял...» Ну и на сердце легче станет, взираючи на них.
Опять стучат сапожищи по передней келье, опять входит запорожец-служка.
– Ты что, хлопче?
– Отец-протоиерей приехали.
– Какой протоиерей?
– Не выговорю, владыко.
– Из Архангельского собора?
– Не скажу.
– Так какой же? – И Амвросий, и отец-катехизатор не могут удержаться от улыбки. – А? Какой?
– Русявенький такий.
– А! Протоиерей Левшинов... Проси.
Запорожец снова загрохотал чеботищами. Входит протоиерей Успенского собора и Святейшего правительствующего синода, конторы член, отец Александр, по фамилии Левшинов. Невысокая фигурка отдает ловкостью, юркостью. Серые глазки очень умны, очень кротки, когда смотрят в другие глаза, и немножко лукавы, когда смотрят кому в спину или читают Евангелие о мытаре...
– Все мои распоряжения, отец-протоиерей, исполнены по конторе Святейшего синода? – спрашивает Амвросий, благословляя гладко причесанную головку протоиерея. – Я ждал рапорта.
– Исполнены, ваше преосвященство.
– А «наставления» мои к пользе послужили?
– К пользе, владыко, несумнительно (глаза протоиерея убежали, куда-то убежали, должно быть, к Петру Могиле на портрет). Только не все тот бисер ценят по цене его...
– Да? Кто же?
– Свиньи, владыко, попирают бисер.
– Как же так, отец-протоиерей? – с удивлением спросил архиепископ.
– Молва в народе бывает, – сказал протоиерей как-то загадочно. – Читают наставления у церквей, а невегласи, подлая чернь, толкуют: «Попам-де не велят причащать нас святыми дарами», «Не велят-де младенцев крестить попам», «Вместо-де попов повитухи крестят и погружают в святую воду, а власов-де совсем не остригают и мирром не мажут».
– О! В городе страх и трепет, владыко. Не приведи Бог видеть, неизглаголанное нечто творится, ужаса преисполненное.
– Спаси, Господи, люди твоя... спаси, – как бы машинально повторял Амвросий.
– Отвратил Господь лицо от людей своих.
– Не говори этого, отец-протоиерей. Теперь именно, может быть, сердце Господне яко воск от огня таяй. Теперь только молятся люди, стучатся в сердце Господне... – тихо сказал Амвросий.
– Молиться, владыко, некому, некому в сердце Господне стучаться.
– Как некому?
– Иерейство погибает, почти все попы повымерли или болеют.
– Разве не исполняется мое «наставление»? – озабоченно спросил Амвросий.
– Исполняется, ваше преосвященство.
– У всех ли церквей оно вывешено при входах?
– Надо полагать, владыко, у всех... Сам я видел, проезжая сюда, как народ толпится около них, слушая чтение грамотных.
Амвросий беспокойно заходил по келье. Опять глаза его с какой-то тоской упали на портрет Петра Могилы, потом перенеслись на кроткий лик Спасителя в терновом венце, как бы следившего за ним из глубины киоты.
– Он смотрит на нас, – указал Амвросий на киоту. – Ему, молившемуся ночью о чаше, понятны наши скорби... Прискорбна, прискорбна душа наша до смерти.
Отец-катехизатор перенес глаза на киоту. Да, смотрит, кротко смотрит божественный лик. Он все видит.
– Да, – как бы отвечая на мысли отца-катехизатора, сказал Амвросий. – Он видит, что чаша еще не переполнена.
– Переполнена, владыко, через край изливается!
У катехизатора до сих пор из головы не выходит потрясающая душу картина, которой он был свидетелем. Сегодня утром приходит к нему студент университета, один из любимейших слушателей, только что возвратившийся, после вакаций, из деревни к началу лекций. Какие тут лекции! Все профессора разбежались, университет заперт, а сторожа мрут, скоро некому будет и университет стеречь, одни собаки остаются, да и те вон сегодня забрались в библиотеку и выволокли оттуда труп библиотечного сторожа и с голоду пожирали его. Приходит к отцу-катехизатору студент и умоляет его поспешить к нему на квартиру с святыми дарами напутствовать хозяев квартиры, где он жил, больны-де все опасно... Идет отец-катехизатор за студентом, торопится, приходит на двор... Окна открыты, потому душно в городе, дышать нечем, и мостовые и железные крыши домов накалены, да еще смрад такой стоит над городом, дым от кадил и свечей, и курева. Входят в сенцы, на полу ничком, крыжом каким-то, распростерт труп, это хозяин: не дождался напутствования, отошел амо... камо? О, Господи! Перешагнули через покойника, покойник лежал ничком, а то хоть и кверху носом, до страшного суда. А за что судить? Перешагнули через покойника, торопятся в горницу, там, слышно, ребенок плачет. Входят. На полу, разметавшись крестом, с откинутой назад головой и растянувшейся на полу на аршин расплетенною косою, лежит молодая женщина, не лежит, а как-то брошена с размаху кем-то, хлобыснулась об пол и лежит, сорочка разорвана на груди, верно в муках, в жару смерти. Голые груди торчат, словно вздулись, и к подмышкам посинели. А к этим мертвым грудям льнет ребенок, карабкается, цепляется ручонками, припадает ртом к окоченевшим сосцам, сосет их, а молока нет, какое там молоко? И ребенок с отчаяния закидывает назад головенкой, плачет, ничего не понимая. И тут же, тоже ничего не понимая, на стол взобрался петух, балованный петух, кормили его из рук, вскочил в домик через открытое окно, взобрался на стол и орет во все горло: «Ки-кареку!»
– Да, переполнена чаша, через край льется...
Амвросий все ходил по келье, все поглядывал на Петра Могилу да на лик Спасителя.
– А что у вас в университете, отец-протоиерей? – спрашивает он, как бы думая о чем-то другом.
– Мерзость запустения, владыко. И там смерть царствует, в царстве науки.
– Нет лекций?
– Нету, владыко. И куратор бегу яся... Одни студенты. О! Богом благословенная младость!
– Что, отец-протоиерей? – И глаза Амвросия блеснули отблеском молодости, вспомнилась академия, лавра, Днепр, вечерние песни «улицы», откуда-то доносившиеся до лавры. И этот дорогой, не умирающий голос за лаврскою оградою:
Дадут мени сажень земли
Та четыре дошки.
Свышенники, диаконы
Повелят звонити —
Тоди об нас перестанут
Люди говорити...
Перестали говорить, да, правда. Люди не говорят, так память горькая не переставала... Амвросий опомнился.
– Что молодость, отец-протоиерей?
– Да я, владыко, говорю о наших студентах... Теперь вот университет закрыт, начальство разбежалось, а они сойдутся-сойдутся утром на дворе, толкуют там себе, галдят, об его превосходительстве Петре Дмитриевиче Еропкине с похвалою отзываются да о штаб-лекаре Граве. Да и то сказать, ваше преосвященство, чего требовать от графа, ветх он вельми, батюшка, в гробу обеими подагрическими ногами стоит. Так вот эта молодежь, говорю, погалдят-погалдят на дворе, а смотришь, и пошли по городу отыскивать больных да голодных, да ухаживают за ними, пекутся о них истинно с христианской любовью. Да ко мне и бегут, веселые такие иногда. «Отец-катехизатор! – говорят, – поставьте такому-то optime на экзамене, он-де пятерых от смерти отнял...» Ну и на сердце легче станет, взираючи на них.
Опять стучат сапожищи по передней келье, опять входит запорожец-служка.
– Ты что, хлопче?
– Отец-протоиерей приехали.
– Какой протоиерей?
– Не выговорю, владыко.
– Из Архангельского собора?
– Не скажу.
– Так какой же? – И Амвросий, и отец-катехизатор не могут удержаться от улыбки. – А? Какой?
– Русявенький такий.
– А! Протоиерей Левшинов... Проси.
Запорожец снова загрохотал чеботищами. Входит протоиерей Успенского собора и Святейшего правительствующего синода, конторы член, отец Александр, по фамилии Левшинов. Невысокая фигурка отдает ловкостью, юркостью. Серые глазки очень умны, очень кротки, когда смотрят в другие глаза, и немножко лукавы, когда смотрят кому в спину или читают Евангелие о мытаре...
– Все мои распоряжения, отец-протоиерей, исполнены по конторе Святейшего синода? – спрашивает Амвросий, благословляя гладко причесанную головку протоиерея. – Я ждал рапорта.
– Исполнены, ваше преосвященство.
– А «наставления» мои к пользе послужили?
– К пользе, владыко, несумнительно (глаза протоиерея убежали, куда-то убежали, должно быть, к Петру Могиле на портрет). Только не все тот бисер ценят по цене его...
– Да? Кто же?
– Свиньи, владыко, попирают бисер.
– Как же так, отец-протоиерей? – с удивлением спросил архиепископ.
– Молва в народе бывает, – сказал протоиерей как-то загадочно. – Читают наставления у церквей, а невегласи, подлая чернь, толкуют: «Попам-де не велят причащать нас святыми дарами», «Не велят-де младенцев крестить попам», «Вместо-де попов повитухи крестят и погружают в святую воду, а власов-де совсем не остригают и мирром не мажут».