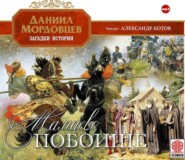По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вельможная панна. Т. 1
Автор
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Какое милое личико! – говорила одна.
– И прекрасная талия! – соглашалась другая.
– А волосы – роскошь!
«Я ничего не отвечала, – отмечает в своих «мемуарах» маленькая полька (хотя все понимала), – потому что в дороге я разучилась говорить по-французски, так как путешествие наше было слишком продолжительно: мы проехали, не знаю сколько городов, всегда с почтой, которая постоянно трубила в охотничий рог».
Понятно, что хитрая девочка, понимая, что о ней говорили, стояла, потупив лукавые глазки, вся залитая румянцем.
Потом девочку подвели к решетке, чтобы показать госпоже Жофрен. А затем повели в покои аббатисы, которая была в бело-голубом атласе, такая величественная, и сестра Криспор провела девочку переодеться в пансионное платьице.
«Увидев, – говорит Елена, – что оно черное, я так сильно расплакалась, что жалко было на меня смотреть».
И маленькая кокетка утешилась только тогда, когда ее украсили голубыми лентами, а затем угостили конфетами.
– Каждый день ты будешь это кушать, – сказали ла-комке.
Елену все ласкали. А большие дежурные пансионерки перешептывались:
– Бедняжка не знает по-французски… Заставим ее говорить по-польски, чтобы услышать, что это за язык.
Елена видела, что над ней посмеиваются, но не хотела говорить.
– Она приехала из такой далекой страны, из Польши.
– Ах, как смешно быть полькой!
Одна из девиц, по фамилии Монморанси, посадила Елену к себе на колени и спросила:
– Хочешь, чтобы я была твоей маленькой мамой?
Девочка кивнула головой в знак согласия, все еще упорно не желая говорить. Она разговаривает сама с собой одной лишь ей понятными звуками, но на людях пользуется языком жестов, пока не научится говорить, как все, – «comme tout le monde», – прибавляет она.
Девицы обступили новую мадонну с младенцем на руках. Они кричали наперерыв:
– Ну, ну, полька, скажи, хорошенькая твоя эта новая мама?
Елена подняла руку к глазам: ей понравились ласковые взоры девушки.
– Моя фамилия Монморанси, – сказала последняя.
Между тем Елене сказали, что ее дядя, князь-епископ, в «говорильной» и желает ее видеть в монастырском одеянии, в форме.
Девочка пошла туда. Госпожа Жофрен была вместе с епископом. Форма им понравилась, и, немного поговорив, гости удалились, поручив Елену вниманию монастырских дам.
Тогда аббатиса и госпожа Рошшуар старались заставить упрямую дикарку разговориться, но совершенно напрасно. Госпожа Рошшуар позвала Монморанси и сказала ей:
– Рекомендую вам, душечка, это дитя. Она – маленькая иностранка и с трудом понимает по-французски. У вас доброе сердце, проводите ее в класс и постарайтесь, чтоб ее не мучили. Вам ведь легко устроить ей хороший прием.
Но когда попросили сказать ее имя, то госпожа Рошшуар никак не могла его вспомнить.
«Тогда я сказала ей мое имя, – говорит Елена в дневнике, – но его все нашли смешным, и я решилась никогда не произносить своей фамилии».
– Но какое имя дано вам при крещении? – спросила Рошшуар.
– Елена, – отвечала молодая полька.
– Тогда я и представлю вас классу под именем Елены, – решила Монморанси.
«Мы отправились, – говорит далее Елена. – Была перемена. Меня увидела мадемуазель Нарбонн, которая заглядывала в приемную, когда я там была, и закричала подругам, которые по случаю дождя гудели, как пчелы в монастыре Душ (des Ames)»:
– Mesdames, вот маленькая дикарка, которая не хочет говорить, но премиленькая!
Все бросились было смотреть на новенькую, да еще «дикарочку», но Монморанси подвела ее к учительницам, и те расцеловали ее. Затем весь класс окружил новенькую, и со всех сторон посыпались вздорные вопросы.
«Но я не сказала ни слова, – поясняет упрямая девочка, – чтобы они могли подумать, что я совсем немая».
Тогда мадемуазель Монморанси, этот своего рода Вергилий маленькой польки, попросила у главной наставницы «голубого» класса позволения показать Елене все монастырские кельи «послушания», и мать Катр-Тан позволила ей это. Обход совершился с шумной свитой пансионерок. Все монахини и «красные» пансионерки очень ласкали Елену и дарили ей кто подушку для иголок и булавок, кто конфету. Елена была очень довольна.
Настало время ужина. Еленин Вергилий, Монморанси, повела девочку в класс, где мать Катр-Тан взяла ее за руку и, введя в столовую, посадила рядом тоже с «новенькой», с мадемуазель Шуазель, с которой юная полька очень подружилась.
«За ужином Шуазель говорила со мной, – пишет Елена в своих «мемуарах», – и я осмелилась отвечать ей».
Тогда Шуазель закричала:
– Маленькая полька говорит по-французски!
Елена уверяет, что Шуазель очень хорошенькая.
– Слушай, Елена! – сказала после ужина Шуазель. – Вечером во время переклички мы должны просить мадам Рошшуар назначить нам день для рекреации и для угощения нас, а я настою, чтобы нам это позволили.
Между тем начались разные игры веселых и беззаботных школьниц. Особенно воодушевляло всех «избиение младенцев», сшибание мячиком кукол.
Затем все шалуньи двинулись в дортуар монахинь. Перекличку делала госпожа Рошшуар; Елену называли последней.
«Я приблизилась вместе с мадемуазель Шуазель, – говорит Елена. – Она просила от моего имени о рекреации».
Рошшуар обратилась к Катр-Тан.
– Необходимо предупредить дядю мадемуазель Елены об этом. Что будет стоить хорошее угощение всех детей?
– Не менее двадцати пяти луидоров.
– И с мороженым?
– Конечно, с мороженым.
– В субботу рекреация! Рекреация! – загудел весь пчелиный улей.
– И прекрасная талия! – соглашалась другая.
– А волосы – роскошь!
«Я ничего не отвечала, – отмечает в своих «мемуарах» маленькая полька (хотя все понимала), – потому что в дороге я разучилась говорить по-французски, так как путешествие наше было слишком продолжительно: мы проехали, не знаю сколько городов, всегда с почтой, которая постоянно трубила в охотничий рог».
Понятно, что хитрая девочка, понимая, что о ней говорили, стояла, потупив лукавые глазки, вся залитая румянцем.
Потом девочку подвели к решетке, чтобы показать госпоже Жофрен. А затем повели в покои аббатисы, которая была в бело-голубом атласе, такая величественная, и сестра Криспор провела девочку переодеться в пансионное платьице.
«Увидев, – говорит Елена, – что оно черное, я так сильно расплакалась, что жалко было на меня смотреть».
И маленькая кокетка утешилась только тогда, когда ее украсили голубыми лентами, а затем угостили конфетами.
– Каждый день ты будешь это кушать, – сказали ла-комке.
Елену все ласкали. А большие дежурные пансионерки перешептывались:
– Бедняжка не знает по-французски… Заставим ее говорить по-польски, чтобы услышать, что это за язык.
Елена видела, что над ней посмеиваются, но не хотела говорить.
– Она приехала из такой далекой страны, из Польши.
– Ах, как смешно быть полькой!
Одна из девиц, по фамилии Монморанси, посадила Елену к себе на колени и спросила:
– Хочешь, чтобы я была твоей маленькой мамой?
Девочка кивнула головой в знак согласия, все еще упорно не желая говорить. Она разговаривает сама с собой одной лишь ей понятными звуками, но на людях пользуется языком жестов, пока не научится говорить, как все, – «comme tout le monde», – прибавляет она.
Девицы обступили новую мадонну с младенцем на руках. Они кричали наперерыв:
– Ну, ну, полька, скажи, хорошенькая твоя эта новая мама?
Елена подняла руку к глазам: ей понравились ласковые взоры девушки.
– Моя фамилия Монморанси, – сказала последняя.
Между тем Елене сказали, что ее дядя, князь-епископ, в «говорильной» и желает ее видеть в монастырском одеянии, в форме.
Девочка пошла туда. Госпожа Жофрен была вместе с епископом. Форма им понравилась, и, немного поговорив, гости удалились, поручив Елену вниманию монастырских дам.
Тогда аббатиса и госпожа Рошшуар старались заставить упрямую дикарку разговориться, но совершенно напрасно. Госпожа Рошшуар позвала Монморанси и сказала ей:
– Рекомендую вам, душечка, это дитя. Она – маленькая иностранка и с трудом понимает по-французски. У вас доброе сердце, проводите ее в класс и постарайтесь, чтоб ее не мучили. Вам ведь легко устроить ей хороший прием.
Но когда попросили сказать ее имя, то госпожа Рошшуар никак не могла его вспомнить.
«Тогда я сказала ей мое имя, – говорит Елена в дневнике, – но его все нашли смешным, и я решилась никогда не произносить своей фамилии».
– Но какое имя дано вам при крещении? – спросила Рошшуар.
– Елена, – отвечала молодая полька.
– Тогда я и представлю вас классу под именем Елены, – решила Монморанси.
«Мы отправились, – говорит далее Елена. – Была перемена. Меня увидела мадемуазель Нарбонн, которая заглядывала в приемную, когда я там была, и закричала подругам, которые по случаю дождя гудели, как пчелы в монастыре Душ (des Ames)»:
– Mesdames, вот маленькая дикарка, которая не хочет говорить, но премиленькая!
Все бросились было смотреть на новенькую, да еще «дикарочку», но Монморанси подвела ее к учительницам, и те расцеловали ее. Затем весь класс окружил новенькую, и со всех сторон посыпались вздорные вопросы.
«Но я не сказала ни слова, – поясняет упрямая девочка, – чтобы они могли подумать, что я совсем немая».
Тогда мадемуазель Монморанси, этот своего рода Вергилий маленькой польки, попросила у главной наставницы «голубого» класса позволения показать Елене все монастырские кельи «послушания», и мать Катр-Тан позволила ей это. Обход совершился с шумной свитой пансионерок. Все монахини и «красные» пансионерки очень ласкали Елену и дарили ей кто подушку для иголок и булавок, кто конфету. Елена была очень довольна.
Настало время ужина. Еленин Вергилий, Монморанси, повела девочку в класс, где мать Катр-Тан взяла ее за руку и, введя в столовую, посадила рядом тоже с «новенькой», с мадемуазель Шуазель, с которой юная полька очень подружилась.
«За ужином Шуазель говорила со мной, – пишет Елена в своих «мемуарах», – и я осмелилась отвечать ей».
Тогда Шуазель закричала:
– Маленькая полька говорит по-французски!
Елена уверяет, что Шуазель очень хорошенькая.
– Слушай, Елена! – сказала после ужина Шуазель. – Вечером во время переклички мы должны просить мадам Рошшуар назначить нам день для рекреации и для угощения нас, а я настою, чтобы нам это позволили.
Между тем начались разные игры веселых и беззаботных школьниц. Особенно воодушевляло всех «избиение младенцев», сшибание мячиком кукол.
Затем все шалуньи двинулись в дортуар монахинь. Перекличку делала госпожа Рошшуар; Елену называли последней.
«Я приблизилась вместе с мадемуазель Шуазель, – говорит Елена. – Она просила от моего имени о рекреации».
Рошшуар обратилась к Катр-Тан.
– Необходимо предупредить дядю мадемуазель Елены об этом. Что будет стоить хорошее угощение всех детей?
– Не менее двадцати пяти луидоров.
– И с мороженым?
– Конечно, с мороженым.
– В субботу рекреация! Рекреация! – загудел весь пчелиный улей.