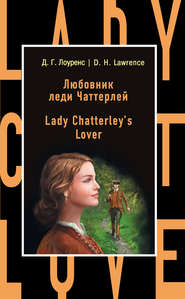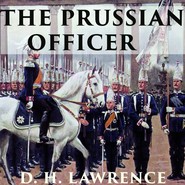По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Влюбленные женщины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
После обеда, когда все остальные разошлись кто куда, Гермиона, Джеральд и Беркин задержались, чтобы закончить дискуссию, завязавшуюся за столом. Этот довольно умозрительный разговор касался нового порядка, нового образа мира. Если допустить, что привычный социальный уклад вдруг рухнет, что может возникнуть из хаоса?
Величайшая общественная идея, заявил сэр Джошуа, – социальное равенство людей. Нет, возразил Джеральд, главное, чтобы каждый человек смог реализовать свои способности, надо дать возможность ему это сделать, и тогда он будет счастлив. Объединяющая идея – сам труд. Только труд, процесс производства связывает людей. И пусть связь эта механическая, но ведь и общество – механизм. Выключенные из трудового процесса люди существуют сами по себе и могут делать все, что хотят.
– Вот как! – воскликнула Гудрун. – Тогда нам не обязательно иметь имена, будем как немцы – просто герр Обермайстер и герр Унтермайстер[22 - Старший мастер и младший мастер (нем.).]. Представляю себе – «Я миссис управляющий шахтами Крич, я миссис член парламента Роддайс, я мисс учительница рисования Брэнгуэн». Прелестно.
– Все будет гораздо лучше, мисс учительница рисования Брэнгуэн, – сказал Джеральд.
– Что будет лучше, мистер управляющий шахтами Крич? Отношения между вами и мной, par exemple[23 - Например (фр.).]?
– Вот именно! – воскликнула итальянка. – Отношения между мужчиной и женщиной!
– Это не относится к сфере общественных отношений, – произнес Беркин насмешливо.
– Конечно, – подтвердил Джеральд. – Между мною и женщиной не возникают общественные вопросы. Тут только все личное.
– И сводится оно к десяти фунтам, – сказал Беркин.
– Значит, вы не считаете женщину равноправным членом общества? – спросила Урсула.
– Почему? Если речь идет об общественных отношениях, женщина – такой же член общества, как и мужчина, – ответил Джеральд. – Но в сфере личных отношений она полностью свободна и может поступать как считает нужным.
– А не трудно совмещать обе эти ипостаси? – задала вопрос Урсула.
– Совсем не трудно, – ответил Джеральд. – Совмещение происходит совершенно естественно, что мы и наблюдаем повсеместно в наши дни.
– Хорошо смеется тот, кто смеется последний, – заметил Беркин.
Джеральд сердито свел брови.
– Я разве смеялся? – сказал он.
– Если б, – вступила наконец и Гермиона, – мы только могли осознать, что в духе мы одно целое, все в нем равны, все братья, тогда остальное стало бы не важным, ушли бы злоба, зависть и борьба за власть, ведущие к разрушению, к одному разрушению.
Ее слова были встречены полным молчанием, почти сразу же гости встали из-за стола и стали расходиться. И вот тогда Беркин разразился гневной речью:
– Все совсем не так, а как раз наоборот, Гермиона. Духовно мы все разные и далеко не равны – одни только социальные различия зависят от случайных материальных условий. Если хочешь, абстрактно мы равны, но это чисто арифметическое равенство. Каждый человек испытывает голод и жажду, имеет два глаза, один нос и две ноги. На этом уровне люди равны. Но духовно все разные, и дело тут не в большей или меньшей высоте духа. При устройстве общества надо учитывать оба уровня. Ваша демократия – абсолютная ложь, а братство людей – чистый вымысел, если иметь в виду не чисто арифметическое равенство. Все мы на первых порах питаемся молоком, а впоследствии едим хлеб и мясо, все хотим ездить в автомобилях – тут начинается и заканчивается наше братство. И никакого равенства.
А я сам, кто я такой, и какое отношение ко мне имеет пресловутое равенство с другими мужчинами и женщинами? В области духа я так же далек от них, как одна звезда от другой, – и в количестве, и в качестве. Вот что должно лежать в основе общественного устройства. Ни один человек не лучше любого другого – и не потому, что все равны, а потому, что люди принципиально различаются между собой, их невозможно сравнивать. Стоит начать сравнивать, и один человек покажется гораздо лучше другого: проступит неравенство, обусловленное самой природой. Мне хотелось бы, чтобы каждый получил свою долю мирового богатства, и тогда я был бы избавлен от всяческих притязаний и мог бы со спокойной совестью сказать: «Ты получил что хотел – вот твоя часть. А теперь, болван, займись своим делом и не мешай мне».
Гермиона злобно пожирала его глазами из-под приспущенных ресниц. Беркин физически ощущал исходящие от нее яростные волны ненависти и отвращения ко всему, что он говорил. Эти мощные черные волны излучало ее подсознание. Гермиона воспринимала его слова только подсознанием – сознательно их не слыша, словно была глухой, – она просто не обращала на них внимания.
– Несколько отдает манией величия, Руперт, – добродушно произнес Джеральд.
Гермиона что-то невнятно пробормотала. Беркин отступил назад.
– Забудьте об этом, – вдруг проговорил он глухим голосом, из которого разом ушел пыл, приковывавший внимание присутствующих, и вышел из комнаты.
Но через некоторое время его стали мучить угрызения совести. Он вел себя жестоко и несправедливо с бедной женщиной. Ему захотелось сделать для Гермионы что-то хорошее, помириться с ней. Он доставил ей боль, проявил мстительность. Надо загладить вину.
Беркин вошел в ее будуар – уединенную комнату, утопавшую в мягких подушках. Гермиона сидела за столом и писала письма. Она подняла глаза, рассеянно глядя, как он подошел к дивану и сел. И снова уткнулась в бумаги.
Беркин взял толстый том, который уже листал прежде, и стал дотошно изучать справку об авторе. К Гермионе он был обращен спиной. Та уже не могла целиком сосредоточиться на письмах. Мысли ее путались, сознание обволакивала темнота; она старалась удержать контроль над собой – так пловец борется с сильным течением. Но, несмотря на все усилия, она проиграла: тьма поглотила ее сознание, она чувствовала, что у нее разрывается сердце. Ужасное напряжение все нарастало, появилось жуткое ощущение, что ее замуровывают.
И тут Гермиона поняла, что стеною было присутствие Беркина – оно разрушало. Если стену не сломать, ее самое ждет страшный конец – ее просто замуруют. Беркин был этой стеною. Нужно во что бы то ни стало сломать стену, уничтожить эту ужасную преграду – то есть уничтожить его, Беркина, отгораживавшего ее от жизни. Сделать это необходимо, или же она погибнет в страшных мучениях.
Гермиону сотрясали болезненные конвульсии, как будто ее било током и множество вольт прошли через нее. Она остро ощущала молчаливое присутствие мужчины в комнате – он казался ей чудовищной, отвратительной помехой. От вида его сутулой спины и затылка разум ее мутился, дыхание перехватило.
Сладострастная дрожь вдруг пробежала по рукам Гермионы – ей открылось, как получить наслаждение. Трепещущие руки были исполнены силы, громадной, непреодолимой силы. Какое наслаждение в силе, какое блаженство! Наконец-то она насладится сполна, и эта минута все ближе! Она ощущала ее приближение, испытывая неимоверный ужас, муку и острое блаженство. Ее рука сама опустилась на красивое лазуритовое пресс-папье в виде шара, стоявшее на письменном столе. Медленно поднимаясь, она перекатывала его рукой. Сердце ее было объято чистым пламенем, она действовала бессознательно, в трансе. Подойдя к мужчине, она некоторое время, охваченная экстазом, стояла за его спиной. Он же, находясь в ее власти, не двигался и ни о чем не догадывался.
Затем в порыве, молнией пронзившем ее тело – этот порыв принес ей сказочное блаженство, неописуемое наслаждение, – она со всей силой обрушила тяжелый шар из полудрагоценного камня на его голову. Сжимавшие камень пальцы смягчили удар, пришедшийся на ухо. Тем не менее голова мужчины рухнула на стол, уткнувшись в книгу, которую он просматривал. Боль от ушибленных пальцев вызвала у Гермионы судорогу острого наслаждения. Но дело было не завершено. Она еще раз занесла руку над неподвижно лежащей на столе головой. Нужно размозжить эту голову прежде, чем экстаз достигнет своего апогея. Сейчас важнее всего довести до конца этот чувственный экстаз, перед которым тысячи жизней, тысячи смертей не имеют значения.
Гермиона не спешила, рука ее двигалась медленно. Только благодаря сильной воле Беркин очнулся, поднял голову и взглянул на Гермиону. В занесенной руке он увидел лазуритовый шар. В левой руке – и он вновь со страхом осознал, что эта женщина – левша. Поспешным движением, словно укрываясь в норе, Беркин прикрыл голову толстым томом Фукидида, и тут его настиг новый удар, чуть не сломавший ему шею.
Беркин был потрясен, но не испуган. Он повернулся к Гермионе, испепелив ее взглядом, опрокинул стол и отошел в другой конец комнаты. Себе он казался разбитым вдребезги стеклянным сосудом, он словно разлетелся на тысячи осколков. Однако движения его были спокойными и четкими, душа сохраняла ясность и безмятежность.
– Ты не сделаешь этого, Гермиона, – тихо вымолвил он. – Я не позволю тебе.
Она стояла перед ним – высокая, красная от злобы, напряженная – и судорожно сжимала в руке камень.
– Пропусти меня, – сказал Беркин, подходя ближе.
Гермиона отступила, будто кто-то отодвинул ее рукой, но продолжала следить за ним – лишенный силы падший ангел.
– Это бессмысленно, – сказал Беркин, проходя мимо нее. – Умру ведь не я. Слышишь?
Выходя из комнаты, он не спускал с Гермионы глаз, опасаясь нового нападения. Пока он настороже, она не осмелится двигаться. Это лишало ее силы. И он ушел, оставив ее одну.
Гермиона словно застыла на месте, это состояние длилось довольно долго. Потом нетвердым шагом подошла к дивану, легла и забылась тяжелым сном. Проснувшись, она помнила о случившемся, но ей казалось, что она всего лишь ударила Беркина: он ее мучил – она ударила. Так поступила бы на ее месте каждая женщина. Значит, она была полностью права. По большому счету она права, Гермиона не сомневалась в этом. Она, чистая и непогрешимая, сделала то, что нужно было сделать. Да, она права, она чиста. С ее лица не сходило восторженное, почти религиозно-экстатическое выражение.
Плохо соображающий Беркин действовал, однако, вполне целенаправленно – вышел из дома, пересек парк, двигаясь дальше – на открытый простор, к горам. Солнечный день померк, накрапывал дождь. Беркин все шел, пока не достиг девственного уголка долины, там густо рос орешник, все утопало в цветах, вересковые пустоши сменялись рощицами из молодых елочек со свежей зеленью на лапках. Было довольно сыро; внизу, в хмурой, или казавшейся хмурой, долине бежал ручеек. Беркин понимал, что не обрел ясность рассудка, – он словно блуждал во мраке.
И все же он к чему-то стремился. Находясь на склоне сырого холма, густо поросшего кустарником и цветами, он почувствовал себя счастливым. Ему хотелось дотронуться до каждого цветка, пропитаться насквозь молодой зеленью. Беркин снял с себя одежду и сел голый среди примул, цветы щекотали его ступни, ноги, колени, руки, подмышки. Он лег плашмя на землю, ощутил цветы грудью, животом. Касания растений были легкими, прохладными, еле уловимыми, он, казалось, впитывал в себя их нежность.
Однако они были слишком уж воздушными. Беркин прошел по высокой траве к поросли молодых елочек – не выше человеческого роста. Когда он продирался сквозь них, ветки его больно хлестали, холодные капли скатывались с деревьев на живот, колючки ранили поясницу. Там был и чертополох, он тоже колол его, но не очень больно: ведь движения Беркина были легкими и осторожными. Как хорошо, как прекрасно, как благодатно опуститься на землю и кататься по только что распустившимся клейким гиацинтам, или лечь на живот, чувствуя, как тебя ласкает шелковистая влажная трава, легкая, как дыхание, чья ласка нежнее и сладостнее прикосновения женщины, или уколоться бедром о сочные иголки молодых елочек, почувствовать, как тебя по плечу легко стегнула ветка орешника, прижаться грудью к серебристому стволу березы, ощутить ее гладкость, прочность, все ее живительные узелки и складки – как это хорошо, как все хорошо, замечательно. Ничто с этим не сравнится, ничто не принесет такого наслаждения, как это ощущение кровного слияния с юной, свежей зеленью. Как повезло ему, что она, как и он, ждала встречи с ним, как он доволен, как счастлив!
Вытираясь платком, он думал о Гермионе и ее поступке. Висок все еще болел. Впрочем, какое это имело значение? Ни Гермиона, ни прочие люди сейчас для него не существовали. Было только это сладостное одиночество, такое восхитительное, неожиданное и незнакомое. Как он ошибался, думая, что ему нужны люди, женщина. Нет, женщина ему совсем не нужна. Листья, примула, деревья – вот что прекрасно и желанно для него, вот что наполняет его и заставляет кровь бежать быстрее. Как безмерно обогатился он, каким счастливым стал!
Гермиона была права в своем желании его убить. Она совсем не нужна ему. Зачем он притворялся, что может иметь дело с людьми? Его мир здесь, ничто и никто не нужен ему, кроме этих милых, нежных, чутких растений и себя самого, его живого «я».
Но в мир нужно возвращаться. С этим ничего не поделать. Однако это не так страшно, когда знаешь, где твое истинное место. А он теперь знал. Здесь его дом, здесь его брачное ложе. Весь остальной мир не имеет к нему отношения.
Беркин стал подниматься по склону, задаваясь вопросом, не сошел ли он с ума. Даже если и так, безумие ему дороже здравого смысла. Он гордился своим безумием, оно делало его свободным. Ему претило вечное благоразумие человечества, оно казалось просто омерзительным. Он предпочитал только что обретенный мир безумия – такой чистый, утонченный и радостный.
Одновременно Беркин испытывал в душе и легкую печаль – давали знать о себе остатки старой морали, согласно которой каждый человек должен вливаться в человечество. Но он устал и от морали, и от людей, и от всего человечества. Сейчас он был влюблен в нежную, мягкую зелень, такую спокойную, такую совершенную. Он справится с этой печалью, расстанется со старой моралью, новое состояние сделает его свободным.
Беркин ощущал, что боль в голове нарастает с каждой минутой. Сейчас он уже шел по дороге к ближайшей железнодорожной станции. Лил дождь, а шляпы на нем не было. Но ведь сейчас не редкость чудаки, которые не надевают в дождь шляпу.
Он задумался, не вызвана ли его печаль, эта тяжесть на сердце, мыслью о том, что кто-то мог видеть, как он лежит голый в зарослях. Какой же страх испытывал он перед человечеством, перед другими людьми! Этот страх граничил с ужасом, с чем-то вроде ночного кошмара. Если б он оказался один на острове, как Александр Селкирк, в окружении только животных и растений, тогда этой тяжести, этого дурного предчувствия не было бы и он оставался бы свободным и счастливым. Любви к растениям достаточно, чтобы не испытывать одиночества, быть радостным и безмятежным.
Величайшая общественная идея, заявил сэр Джошуа, – социальное равенство людей. Нет, возразил Джеральд, главное, чтобы каждый человек смог реализовать свои способности, надо дать возможность ему это сделать, и тогда он будет счастлив. Объединяющая идея – сам труд. Только труд, процесс производства связывает людей. И пусть связь эта механическая, но ведь и общество – механизм. Выключенные из трудового процесса люди существуют сами по себе и могут делать все, что хотят.
– Вот как! – воскликнула Гудрун. – Тогда нам не обязательно иметь имена, будем как немцы – просто герр Обермайстер и герр Унтермайстер[22 - Старший мастер и младший мастер (нем.).]. Представляю себе – «Я миссис управляющий шахтами Крич, я миссис член парламента Роддайс, я мисс учительница рисования Брэнгуэн». Прелестно.
– Все будет гораздо лучше, мисс учительница рисования Брэнгуэн, – сказал Джеральд.
– Что будет лучше, мистер управляющий шахтами Крич? Отношения между вами и мной, par exemple[23 - Например (фр.).]?
– Вот именно! – воскликнула итальянка. – Отношения между мужчиной и женщиной!
– Это не относится к сфере общественных отношений, – произнес Беркин насмешливо.
– Конечно, – подтвердил Джеральд. – Между мною и женщиной не возникают общественные вопросы. Тут только все личное.
– И сводится оно к десяти фунтам, – сказал Беркин.
– Значит, вы не считаете женщину равноправным членом общества? – спросила Урсула.
– Почему? Если речь идет об общественных отношениях, женщина – такой же член общества, как и мужчина, – ответил Джеральд. – Но в сфере личных отношений она полностью свободна и может поступать как считает нужным.
– А не трудно совмещать обе эти ипостаси? – задала вопрос Урсула.
– Совсем не трудно, – ответил Джеральд. – Совмещение происходит совершенно естественно, что мы и наблюдаем повсеместно в наши дни.
– Хорошо смеется тот, кто смеется последний, – заметил Беркин.
Джеральд сердито свел брови.
– Я разве смеялся? – сказал он.
– Если б, – вступила наконец и Гермиона, – мы только могли осознать, что в духе мы одно целое, все в нем равны, все братья, тогда остальное стало бы не важным, ушли бы злоба, зависть и борьба за власть, ведущие к разрушению, к одному разрушению.
Ее слова были встречены полным молчанием, почти сразу же гости встали из-за стола и стали расходиться. И вот тогда Беркин разразился гневной речью:
– Все совсем не так, а как раз наоборот, Гермиона. Духовно мы все разные и далеко не равны – одни только социальные различия зависят от случайных материальных условий. Если хочешь, абстрактно мы равны, но это чисто арифметическое равенство. Каждый человек испытывает голод и жажду, имеет два глаза, один нос и две ноги. На этом уровне люди равны. Но духовно все разные, и дело тут не в большей или меньшей высоте духа. При устройстве общества надо учитывать оба уровня. Ваша демократия – абсолютная ложь, а братство людей – чистый вымысел, если иметь в виду не чисто арифметическое равенство. Все мы на первых порах питаемся молоком, а впоследствии едим хлеб и мясо, все хотим ездить в автомобилях – тут начинается и заканчивается наше братство. И никакого равенства.
А я сам, кто я такой, и какое отношение ко мне имеет пресловутое равенство с другими мужчинами и женщинами? В области духа я так же далек от них, как одна звезда от другой, – и в количестве, и в качестве. Вот что должно лежать в основе общественного устройства. Ни один человек не лучше любого другого – и не потому, что все равны, а потому, что люди принципиально различаются между собой, их невозможно сравнивать. Стоит начать сравнивать, и один человек покажется гораздо лучше другого: проступит неравенство, обусловленное самой природой. Мне хотелось бы, чтобы каждый получил свою долю мирового богатства, и тогда я был бы избавлен от всяческих притязаний и мог бы со спокойной совестью сказать: «Ты получил что хотел – вот твоя часть. А теперь, болван, займись своим делом и не мешай мне».
Гермиона злобно пожирала его глазами из-под приспущенных ресниц. Беркин физически ощущал исходящие от нее яростные волны ненависти и отвращения ко всему, что он говорил. Эти мощные черные волны излучало ее подсознание. Гермиона воспринимала его слова только подсознанием – сознательно их не слыша, словно была глухой, – она просто не обращала на них внимания.
– Несколько отдает манией величия, Руперт, – добродушно произнес Джеральд.
Гермиона что-то невнятно пробормотала. Беркин отступил назад.
– Забудьте об этом, – вдруг проговорил он глухим голосом, из которого разом ушел пыл, приковывавший внимание присутствующих, и вышел из комнаты.
Но через некоторое время его стали мучить угрызения совести. Он вел себя жестоко и несправедливо с бедной женщиной. Ему захотелось сделать для Гермионы что-то хорошее, помириться с ней. Он доставил ей боль, проявил мстительность. Надо загладить вину.
Беркин вошел в ее будуар – уединенную комнату, утопавшую в мягких подушках. Гермиона сидела за столом и писала письма. Она подняла глаза, рассеянно глядя, как он подошел к дивану и сел. И снова уткнулась в бумаги.
Беркин взял толстый том, который уже листал прежде, и стал дотошно изучать справку об авторе. К Гермионе он был обращен спиной. Та уже не могла целиком сосредоточиться на письмах. Мысли ее путались, сознание обволакивала темнота; она старалась удержать контроль над собой – так пловец борется с сильным течением. Но, несмотря на все усилия, она проиграла: тьма поглотила ее сознание, она чувствовала, что у нее разрывается сердце. Ужасное напряжение все нарастало, появилось жуткое ощущение, что ее замуровывают.
И тут Гермиона поняла, что стеною было присутствие Беркина – оно разрушало. Если стену не сломать, ее самое ждет страшный конец – ее просто замуруют. Беркин был этой стеною. Нужно во что бы то ни стало сломать стену, уничтожить эту ужасную преграду – то есть уничтожить его, Беркина, отгораживавшего ее от жизни. Сделать это необходимо, или же она погибнет в страшных мучениях.
Гермиону сотрясали болезненные конвульсии, как будто ее било током и множество вольт прошли через нее. Она остро ощущала молчаливое присутствие мужчины в комнате – он казался ей чудовищной, отвратительной помехой. От вида его сутулой спины и затылка разум ее мутился, дыхание перехватило.
Сладострастная дрожь вдруг пробежала по рукам Гермионы – ей открылось, как получить наслаждение. Трепещущие руки были исполнены силы, громадной, непреодолимой силы. Какое наслаждение в силе, какое блаженство! Наконец-то она насладится сполна, и эта минута все ближе! Она ощущала ее приближение, испытывая неимоверный ужас, муку и острое блаженство. Ее рука сама опустилась на красивое лазуритовое пресс-папье в виде шара, стоявшее на письменном столе. Медленно поднимаясь, она перекатывала его рукой. Сердце ее было объято чистым пламенем, она действовала бессознательно, в трансе. Подойдя к мужчине, она некоторое время, охваченная экстазом, стояла за его спиной. Он же, находясь в ее власти, не двигался и ни о чем не догадывался.
Затем в порыве, молнией пронзившем ее тело – этот порыв принес ей сказочное блаженство, неописуемое наслаждение, – она со всей силой обрушила тяжелый шар из полудрагоценного камня на его голову. Сжимавшие камень пальцы смягчили удар, пришедшийся на ухо. Тем не менее голова мужчины рухнула на стол, уткнувшись в книгу, которую он просматривал. Боль от ушибленных пальцев вызвала у Гермионы судорогу острого наслаждения. Но дело было не завершено. Она еще раз занесла руку над неподвижно лежащей на столе головой. Нужно размозжить эту голову прежде, чем экстаз достигнет своего апогея. Сейчас важнее всего довести до конца этот чувственный экстаз, перед которым тысячи жизней, тысячи смертей не имеют значения.
Гермиона не спешила, рука ее двигалась медленно. Только благодаря сильной воле Беркин очнулся, поднял голову и взглянул на Гермиону. В занесенной руке он увидел лазуритовый шар. В левой руке – и он вновь со страхом осознал, что эта женщина – левша. Поспешным движением, словно укрываясь в норе, Беркин прикрыл голову толстым томом Фукидида, и тут его настиг новый удар, чуть не сломавший ему шею.
Беркин был потрясен, но не испуган. Он повернулся к Гермионе, испепелив ее взглядом, опрокинул стол и отошел в другой конец комнаты. Себе он казался разбитым вдребезги стеклянным сосудом, он словно разлетелся на тысячи осколков. Однако движения его были спокойными и четкими, душа сохраняла ясность и безмятежность.
– Ты не сделаешь этого, Гермиона, – тихо вымолвил он. – Я не позволю тебе.
Она стояла перед ним – высокая, красная от злобы, напряженная – и судорожно сжимала в руке камень.
– Пропусти меня, – сказал Беркин, подходя ближе.
Гермиона отступила, будто кто-то отодвинул ее рукой, но продолжала следить за ним – лишенный силы падший ангел.
– Это бессмысленно, – сказал Беркин, проходя мимо нее. – Умру ведь не я. Слышишь?
Выходя из комнаты, он не спускал с Гермионы глаз, опасаясь нового нападения. Пока он настороже, она не осмелится двигаться. Это лишало ее силы. И он ушел, оставив ее одну.
Гермиона словно застыла на месте, это состояние длилось довольно долго. Потом нетвердым шагом подошла к дивану, легла и забылась тяжелым сном. Проснувшись, она помнила о случившемся, но ей казалось, что она всего лишь ударила Беркина: он ее мучил – она ударила. Так поступила бы на ее месте каждая женщина. Значит, она была полностью права. По большому счету она права, Гермиона не сомневалась в этом. Она, чистая и непогрешимая, сделала то, что нужно было сделать. Да, она права, она чиста. С ее лица не сходило восторженное, почти религиозно-экстатическое выражение.
Плохо соображающий Беркин действовал, однако, вполне целенаправленно – вышел из дома, пересек парк, двигаясь дальше – на открытый простор, к горам. Солнечный день померк, накрапывал дождь. Беркин все шел, пока не достиг девственного уголка долины, там густо рос орешник, все утопало в цветах, вересковые пустоши сменялись рощицами из молодых елочек со свежей зеленью на лапках. Было довольно сыро; внизу, в хмурой, или казавшейся хмурой, долине бежал ручеек. Беркин понимал, что не обрел ясность рассудка, – он словно блуждал во мраке.
И все же он к чему-то стремился. Находясь на склоне сырого холма, густо поросшего кустарником и цветами, он почувствовал себя счастливым. Ему хотелось дотронуться до каждого цветка, пропитаться насквозь молодой зеленью. Беркин снял с себя одежду и сел голый среди примул, цветы щекотали его ступни, ноги, колени, руки, подмышки. Он лег плашмя на землю, ощутил цветы грудью, животом. Касания растений были легкими, прохладными, еле уловимыми, он, казалось, впитывал в себя их нежность.
Однако они были слишком уж воздушными. Беркин прошел по высокой траве к поросли молодых елочек – не выше человеческого роста. Когда он продирался сквозь них, ветки его больно хлестали, холодные капли скатывались с деревьев на живот, колючки ранили поясницу. Там был и чертополох, он тоже колол его, но не очень больно: ведь движения Беркина были легкими и осторожными. Как хорошо, как прекрасно, как благодатно опуститься на землю и кататься по только что распустившимся клейким гиацинтам, или лечь на живот, чувствуя, как тебя ласкает шелковистая влажная трава, легкая, как дыхание, чья ласка нежнее и сладостнее прикосновения женщины, или уколоться бедром о сочные иголки молодых елочек, почувствовать, как тебя по плечу легко стегнула ветка орешника, прижаться грудью к серебристому стволу березы, ощутить ее гладкость, прочность, все ее живительные узелки и складки – как это хорошо, как все хорошо, замечательно. Ничто с этим не сравнится, ничто не принесет такого наслаждения, как это ощущение кровного слияния с юной, свежей зеленью. Как повезло ему, что она, как и он, ждала встречи с ним, как он доволен, как счастлив!
Вытираясь платком, он думал о Гермионе и ее поступке. Висок все еще болел. Впрочем, какое это имело значение? Ни Гермиона, ни прочие люди сейчас для него не существовали. Было только это сладостное одиночество, такое восхитительное, неожиданное и незнакомое. Как он ошибался, думая, что ему нужны люди, женщина. Нет, женщина ему совсем не нужна. Листья, примула, деревья – вот что прекрасно и желанно для него, вот что наполняет его и заставляет кровь бежать быстрее. Как безмерно обогатился он, каким счастливым стал!
Гермиона была права в своем желании его убить. Она совсем не нужна ему. Зачем он притворялся, что может иметь дело с людьми? Его мир здесь, ничто и никто не нужен ему, кроме этих милых, нежных, чутких растений и себя самого, его живого «я».
Но в мир нужно возвращаться. С этим ничего не поделать. Однако это не так страшно, когда знаешь, где твое истинное место. А он теперь знал. Здесь его дом, здесь его брачное ложе. Весь остальной мир не имеет к нему отношения.
Беркин стал подниматься по склону, задаваясь вопросом, не сошел ли он с ума. Даже если и так, безумие ему дороже здравого смысла. Он гордился своим безумием, оно делало его свободным. Ему претило вечное благоразумие человечества, оно казалось просто омерзительным. Он предпочитал только что обретенный мир безумия – такой чистый, утонченный и радостный.
Одновременно Беркин испытывал в душе и легкую печаль – давали знать о себе остатки старой морали, согласно которой каждый человек должен вливаться в человечество. Но он устал и от морали, и от людей, и от всего человечества. Сейчас он был влюблен в нежную, мягкую зелень, такую спокойную, такую совершенную. Он справится с этой печалью, расстанется со старой моралью, новое состояние сделает его свободным.
Беркин ощущал, что боль в голове нарастает с каждой минутой. Сейчас он уже шел по дороге к ближайшей железнодорожной станции. Лил дождь, а шляпы на нем не было. Но ведь сейчас не редкость чудаки, которые не надевают в дождь шляпу.
Он задумался, не вызвана ли его печаль, эта тяжесть на сердце, мыслью о том, что кто-то мог видеть, как он лежит голый в зарослях. Какой же страх испытывал он перед человечеством, перед другими людьми! Этот страх граничил с ужасом, с чем-то вроде ночного кошмара. Если б он оказался один на острове, как Александр Селкирк, в окружении только животных и растений, тогда этой тяжести, этого дурного предчувствия не было бы и он оставался бы свободным и счастливым. Любви к растениям достаточно, чтобы не испытывать одиночества, быть радостным и безмятежным.