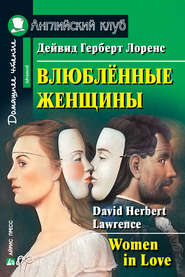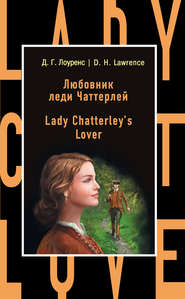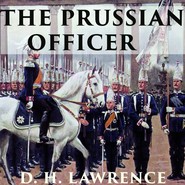По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Влюбленные женщины
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Взгляни сама, – сказала графиня на итальянском. – Он не мужчина, он хамелеон, существо, постоянно меняющее свое обличье.
«Он не мужчина, не один из нас, он ненадежный», – промелькнуло в голове у Гермионы. Душа ее содрогнулась, не в силах вынести темного подчинения этому мужчине, ведь он способен отключаться, существовать отдельно, а все потому, что он непоследовательный, не мужчина, а нечто меньшее. В ее ненависти к нему было отчаяние, оно надрывало душу, разрушало, она словно разлагалась, как труп, не чувствуя ничего, кроме этого тошнотворного состояния распада, свершавшегося в ее душе и теле.
Дом был переполнен, и потому Джеральду отвели маленькую комнату, а точнее, гардеробную, примыкавшую к спальне Беркина. Когда все, взяв свечи, пошли наверх, где свет горел вполнакала, Гермиона увела Урсулу в свою комнату поболтать. В большой, необычно обставленной спальне Урсула чувствовала себя скованно. Казалось, Гермиона отчаянно молила ее о чем-то, не высказывая, однако, открыто своей просьбы. Они рассматривали шелковые индийские ночные рубашки, яркие и сексуальные, любовались кроем, их изощренным, почти безнравственным великолепием. Гермиона почти вплотную подошла к Урсуле, грудь ее трепетала, и Урсулу охватила паника. Взгляд измученных, ввалившихся глаз остановился на лице Урсулы, и Гермиона увидела на нем страх, все то же свидетельство надвигающейся катастрофы. Урсула взяла в руки рубашку насыщенного алого и синего цветов, сшитую для четырнадцатилетней княжны, и машинально воскликнула:
– Разве это не чудо? Кто еще осмелился бы совместить два таких ярких цвета?
Вошла горничная Гермионы, и охваченная страхом Урсула, повинуясь порыву, поспешила удалиться.
Беркин сразу пошел спать. Его тянуло ко сну, он чувствовал себя счастливым. После танцев он пребывал в блаженном состоянии. Однако Джеральду не терпелось поговорить с ним. Не снимая фрака, он сел на краешек постели и стал задавать вопросы.
– Откуда взялись эти сестры Брэнгуэн? – первым делом спросил он.
– Они живут в Бельдовере.
– В Бельдовере? Но кто они такие?
– Учителя.
Последовало молчание.
– Вот оно что! – воскликнул наконец Джеральд. – То-то мне показалось, что я видел их раньше.
– Ты разочарован? – спросил Беркин.
– Разочарован? Я? Конечно, нет, но как Гермиона решилась их пригласить?
– Она познакомилась в Лондоне с Гудрун – той сестрой, что моложе, у нее более темные волосы, – она художница, занимается скульптурой и моделированием.
– Выходит, учительницей работает только другая сестра?
– Нет, обе. Гудрун ведет рисование, а Урсула классная дама.
– А кто у них отец?
– Преподает основы трудовой деятельности.
– Да ну!
– Классовые барьеры, как видишь, рушатся!
Джеральду всегда становилось не по себе, когда Беркин принимал подобный насмешливый тон.
– Значит, отец этих девиц учитель труда? Но что мне до того?
Беркин рассмеялся. Джеральд смотрел на его смеющееся лицо, сохранявшее, однако, горькое и одновременно равнодушное выражение, и сидел, не чувствуя в себе сил встать и уйти.
– Не думаю, что Гудрун здесь надолго задержится. Она непоседа, неделя-другая – и наша птичка улетит, – сказал Беркин.
– И куда же?
– Кто знает? В Лондон, Париж, Рим. Гудрун может очутиться в Дамаске или Сан-Франциско – она ведь райская птичка. Непонятно, как она оказалась в Бельдовере. Что-то из области снов, в них плохое – к хорошему, и наоборот.
Джеральд задумался.
– Откуда ты так хорошо ее знаешь? – спросил он.
– Я познакомился с ней в Лондоне, – ответил Беркин, – в компании Алджернона Стрейнджа. Даже если она не знакома с Минеттой, Либидниковым и остальными, то знает о них понаслышке. Гудрун не совсем их круга – более светская, что ли. Я знаком с ней уже года два.
– Значит, она зарабатывает не только преподаванием? – поинтересовался Джеральд.
– Нерегулярно. Продает свои работы. У нее есть кое-какая rе?clame[19 - Известность, реклама (фр.).].
– И за какие деньги?
– От гинеи до десяти.
– Ее работы хороши? Что они собой представляют?
– Некоторые, на мой взгляд, просто великолепны. Те две трясогузки, вырезанные из дерева и раскрашенные, что ты видел в будуаре Гермионы, вышли из ее рук.
– А я думал, это тоже дикарская штучка.
– Нет, трясогузок вырезала она. Все ее поделки – зверюшки, птицы, человечки – странные, хоть и в обычной одежде, – просто прелесть! Во всех есть неуловимое своеобразие.
– И что, со временем она может стать известной художницей? – задумчиво произнес Джеральд.
– Может. Хотя я так не думаю. Если она увлечется чем-то другим, то бросит искусство. Своенравный, противоречивый характер мешает ей отнестись к своему дару серьезно, она не хочет уходить с головой в искусство, боится потерять себя. Впрочем, себя она никогда не потеряет – слишком силен в ней инстинкт самосохранения. Это как раз и не нравится мне в женщинах такого типа. Кстати, как сложились твои отношения с Минеттой после моего отъезда? Я ничего об этом не знаю.
– Хуже не бывает. Холлидей вдруг стал совершенно невыносимым. Я еле сдержался, чтобы не всыпать ему как следует.
Беркин помолчал.
– Джулиус в каком-то смысле безумен. Он помешан на религии и в то же время очарован пороком. То он прислужник Христа, омывающий Ему ноги, то живописец, рисующий непристойные картинки с изображениями Иисуса, – действие и противодействие, и никакой золотой середины. Джулиус действительно не в своем уме. Он мечтает о чистой лилии, о девушке с боттичеллиевским ликом, но одновременно ему необходима Минетта, чтобы осквернить себя, вываляться с ней в грязи.
– Вот этого я не понимаю, – сказал Джеральд. – Любит он Минетту или нет?
– Не то и не другое. Для него она просто шлюха, похотливая потаскушка. Он испытывает непреодолимое желание слиться с ней, окунувшись в ту же грязь. А затем приходит в себя и взывает к чистой лилии, девушке с детским личиком, получая от этого контраста удовольствие. Старая песня: действие и противодействие – и ничего между ними.
– Не думаю, что он так уж не прав в отношении Минетты, – проговорил Джеральд, немного помолчав. – Мне она показалась довольно непотребной.
– А я было решил, что она тебе понравилась, – воскликнул Беркин. – Со своей стороны, я всегда чувствовал к ней симпатию. Но у меня, по правде говоря, никогда с ней ничего не было.
– Первые два дня она мне нравилась, не скрою, – сказал Джеральд. – Но уже через неделю меня бы от нее воротило. У женщин такого сорта кожа как-то особенно пахнет, поначалу это приятно, а потом начинает тошнить.
– Понимаю, – произнес Беркин и несколько раздраженно прибавил: – Давай спать, Джеральд. Уже поздно.
Джеральд взглянул на часы, неспешно поднялся и направился в свою комнату. Однако через несколько минут вернулся – уже в одной рубашке.
«Он не мужчина, не один из нас, он ненадежный», – промелькнуло в голове у Гермионы. Душа ее содрогнулась, не в силах вынести темного подчинения этому мужчине, ведь он способен отключаться, существовать отдельно, а все потому, что он непоследовательный, не мужчина, а нечто меньшее. В ее ненависти к нему было отчаяние, оно надрывало душу, разрушало, она словно разлагалась, как труп, не чувствуя ничего, кроме этого тошнотворного состояния распада, свершавшегося в ее душе и теле.
Дом был переполнен, и потому Джеральду отвели маленькую комнату, а точнее, гардеробную, примыкавшую к спальне Беркина. Когда все, взяв свечи, пошли наверх, где свет горел вполнакала, Гермиона увела Урсулу в свою комнату поболтать. В большой, необычно обставленной спальне Урсула чувствовала себя скованно. Казалось, Гермиона отчаянно молила ее о чем-то, не высказывая, однако, открыто своей просьбы. Они рассматривали шелковые индийские ночные рубашки, яркие и сексуальные, любовались кроем, их изощренным, почти безнравственным великолепием. Гермиона почти вплотную подошла к Урсуле, грудь ее трепетала, и Урсулу охватила паника. Взгляд измученных, ввалившихся глаз остановился на лице Урсулы, и Гермиона увидела на нем страх, все то же свидетельство надвигающейся катастрофы. Урсула взяла в руки рубашку насыщенного алого и синего цветов, сшитую для четырнадцатилетней княжны, и машинально воскликнула:
– Разве это не чудо? Кто еще осмелился бы совместить два таких ярких цвета?
Вошла горничная Гермионы, и охваченная страхом Урсула, повинуясь порыву, поспешила удалиться.
Беркин сразу пошел спать. Его тянуло ко сну, он чувствовал себя счастливым. После танцев он пребывал в блаженном состоянии. Однако Джеральду не терпелось поговорить с ним. Не снимая фрака, он сел на краешек постели и стал задавать вопросы.
– Откуда взялись эти сестры Брэнгуэн? – первым делом спросил он.
– Они живут в Бельдовере.
– В Бельдовере? Но кто они такие?
– Учителя.
Последовало молчание.
– Вот оно что! – воскликнул наконец Джеральд. – То-то мне показалось, что я видел их раньше.
– Ты разочарован? – спросил Беркин.
– Разочарован? Я? Конечно, нет, но как Гермиона решилась их пригласить?
– Она познакомилась в Лондоне с Гудрун – той сестрой, что моложе, у нее более темные волосы, – она художница, занимается скульптурой и моделированием.
– Выходит, учительницей работает только другая сестра?
– Нет, обе. Гудрун ведет рисование, а Урсула классная дама.
– А кто у них отец?
– Преподает основы трудовой деятельности.
– Да ну!
– Классовые барьеры, как видишь, рушатся!
Джеральду всегда становилось не по себе, когда Беркин принимал подобный насмешливый тон.
– Значит, отец этих девиц учитель труда? Но что мне до того?
Беркин рассмеялся. Джеральд смотрел на его смеющееся лицо, сохранявшее, однако, горькое и одновременно равнодушное выражение, и сидел, не чувствуя в себе сил встать и уйти.
– Не думаю, что Гудрун здесь надолго задержится. Она непоседа, неделя-другая – и наша птичка улетит, – сказал Беркин.
– И куда же?
– Кто знает? В Лондон, Париж, Рим. Гудрун может очутиться в Дамаске или Сан-Франциско – она ведь райская птичка. Непонятно, как она оказалась в Бельдовере. Что-то из области снов, в них плохое – к хорошему, и наоборот.
Джеральд задумался.
– Откуда ты так хорошо ее знаешь? – спросил он.
– Я познакомился с ней в Лондоне, – ответил Беркин, – в компании Алджернона Стрейнджа. Даже если она не знакома с Минеттой, Либидниковым и остальными, то знает о них понаслышке. Гудрун не совсем их круга – более светская, что ли. Я знаком с ней уже года два.
– Значит, она зарабатывает не только преподаванием? – поинтересовался Джеральд.
– Нерегулярно. Продает свои работы. У нее есть кое-какая rе?clame[19 - Известность, реклама (фр.).].
– И за какие деньги?
– От гинеи до десяти.
– Ее работы хороши? Что они собой представляют?
– Некоторые, на мой взгляд, просто великолепны. Те две трясогузки, вырезанные из дерева и раскрашенные, что ты видел в будуаре Гермионы, вышли из ее рук.
– А я думал, это тоже дикарская штучка.
– Нет, трясогузок вырезала она. Все ее поделки – зверюшки, птицы, человечки – странные, хоть и в обычной одежде, – просто прелесть! Во всех есть неуловимое своеобразие.
– И что, со временем она может стать известной художницей? – задумчиво произнес Джеральд.
– Может. Хотя я так не думаю. Если она увлечется чем-то другим, то бросит искусство. Своенравный, противоречивый характер мешает ей отнестись к своему дару серьезно, она не хочет уходить с головой в искусство, боится потерять себя. Впрочем, себя она никогда не потеряет – слишком силен в ней инстинкт самосохранения. Это как раз и не нравится мне в женщинах такого типа. Кстати, как сложились твои отношения с Минеттой после моего отъезда? Я ничего об этом не знаю.
– Хуже не бывает. Холлидей вдруг стал совершенно невыносимым. Я еле сдержался, чтобы не всыпать ему как следует.
Беркин помолчал.
– Джулиус в каком-то смысле безумен. Он помешан на религии и в то же время очарован пороком. То он прислужник Христа, омывающий Ему ноги, то живописец, рисующий непристойные картинки с изображениями Иисуса, – действие и противодействие, и никакой золотой середины. Джулиус действительно не в своем уме. Он мечтает о чистой лилии, о девушке с боттичеллиевским ликом, но одновременно ему необходима Минетта, чтобы осквернить себя, вываляться с ней в грязи.
– Вот этого я не понимаю, – сказал Джеральд. – Любит он Минетту или нет?
– Не то и не другое. Для него она просто шлюха, похотливая потаскушка. Он испытывает непреодолимое желание слиться с ней, окунувшись в ту же грязь. А затем приходит в себя и взывает к чистой лилии, девушке с детским личиком, получая от этого контраста удовольствие. Старая песня: действие и противодействие – и ничего между ними.
– Не думаю, что он так уж не прав в отношении Минетты, – проговорил Джеральд, немного помолчав. – Мне она показалась довольно непотребной.
– А я было решил, что она тебе понравилась, – воскликнул Беркин. – Со своей стороны, я всегда чувствовал к ней симпатию. Но у меня, по правде говоря, никогда с ней ничего не было.
– Первые два дня она мне нравилась, не скрою, – сказал Джеральд. – Но уже через неделю меня бы от нее воротило. У женщин такого сорта кожа как-то особенно пахнет, поначалу это приятно, а потом начинает тошнить.
– Понимаю, – произнес Беркин и несколько раздраженно прибавил: – Давай спать, Джеральд. Уже поздно.
Джеральд взглянул на часы, неспешно поднялся и направился в свою комнату. Однако через несколько минут вернулся – уже в одной рубашке.