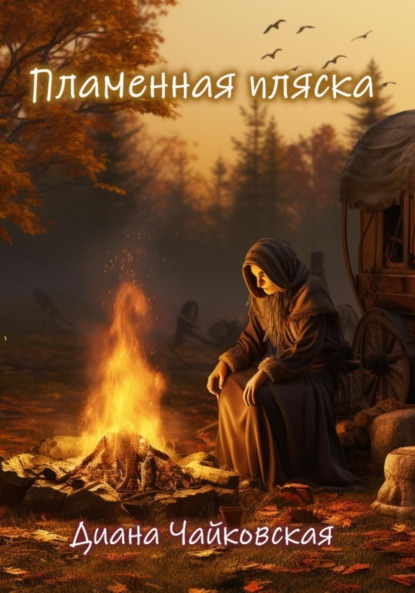По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Пламенная пляска
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Пляшут кони к раааадости, – Чарген покачала головой и рухнула на постель. Пусть делает, что хочет, а она ему не дастся. С этой мыслью и заснула, позабыв про всё. Лишь нечеловечески красивые глаза Мирчи горели во мраке так, будто молодой цыган находился прямо перед ней.
3.
Гулять на отцовской свадьбе Мирче совершенно не хотелось. Всё то казалось огромной издёвкой над ним. Другого объяснения происходящему он не нашёл. Старый, почти седой отец брал в жёны невесть кого, как будто таборных девок под носом было мало. Возьми, посватайся к любой – и пойдёт, не посмеет отказать. Но нет, вздумал на закате лет взять невесть что. А вдруг у неё вообще вся семья порченая, опозоренная давным–давно? Вот и бери кота в мешке! Хорошие цыгане невольниками не становятся, они берегут себя.
Как ни старался Мирча скрыть досаду и горечь, а всё же лезло оно наружу, разъедая рёбра. Так, что аж свалился на землю и до жути захотел поднять голову, посмотреть на полную луну и завыть, как не выл ни один волк. И чем он, Мирча, ему не угодил?! Ладный конокрад, ловкий, с детства с кофарями на базарах и ярмарках, самолично старых кляч помогал сбагривать за серебряники, деньгами делился, отца не обижал, да и тётку тоже, хоть она сама себе хозяйка. Шувани, чтоб её! Уважаемая!
Наверняка Рада нашептала брату чего–то дурного, иначе бы не вздумал он жениться и не кувыркался бы сейчас с безродной девкой, надеясь, что та родит ему ещё одного сына. Тьфу! Да пошло оно всё!
Мирча схватил своего вороного и понёсся к речке, которая волновалась и перешёптывалась с луной и звёздами. Золотистый лес гудел. Вдали ухали совы. Сверчки напевали среди травинок о чём–то своём. Мирча рухнул в холодную воду и умыл лицо. Илистое дно стелилось под ноги мягче ковра. Вороной охотно купался рядом и посмеивался, мол, вот до чего докатились, а ещё – цыгане…
На душе скребли самые поганые кошки. Его тошнило от всего – от таборных, от отца и теперешней мачехи, которая вечно вилась рядом и не давала ему покоя, как будто пыталась подлизаться и стелила соломку. Баба, что с неё взять–то? Мирча плавал в воде и надеялся, что русалки утащат его на дно. Тогда не придётся возвращаться в табор и смотреть, как люди смеются с него, а отец и вовсе не смотрит. Куда ему – теперь ведь молодая жена под боком!
Отец давно угрожал его выпороть при всём таборе, если тот продолжит постоянно красть коней. Ладно бы выбирался раза три в месяц, но нет – пропала вечно невесть где, невесть с кем, а потом приходил с карманами, полными денег, или целым табуном породистых лошадок. Зурал хмурился, темнел пуще прежнего и скрипел зубами, требуя с Мирчи прекратить.
– Да как же можно, дадо?! – возмущался тот. – Гаджо совсем не умеют с конями обращаться! Держат их в стойлах, цепляют вот это, – он бросил к ногам Зурала изрезанные поводья. – Насмехаются, издеваются над скотиной как могут!
– Выпорю, – фыркал барон, выпуская кольцо дыма изо рта.
И никакие деньги его не утешали.
Мирча прикусил губу и тяжело вздохнул. Будь что будет. Пусть хоть тридцать три несчастья на голову рухнут. Он не станет терпеть завтрашних насмешек, а первого, кто посмеет открыть рот, изрежет до неузнаваемости. И никто – никто! – не скажет ему слова поперёк, даже отец.
4.
Луна серебрила темные кроны. Мягкий свет пробивался сквозь ветви и играл на тропинках, к счастью для Зурала. Не мальчишка ведь уже, чтобы по оврагам скакать и ловко уворачиваться от колючих веток. Да ему и не требовалось – кто увидит–то? После того, как вынесли окровавленную простыню, цыгане начали пировать по новой и к рассвету уже все спали. Спасибо Раде, выручила. Девчушку–то Зурал так и не тронул, а простыня нашлась сама – лежала под подушками в свёртке.
Но то было лишь начало. Как только стих шум, старый барон поднялся на ноги и смело зашагал к перелеску, где его уже поджидала Рада. Цыганка раскуривала трубку и искоса смотрела на брата, словно спрашивая: что, не передумаешь, морэ?
Зурал был рад этой свадьбе не меньше, чем его невеста. Чарген, конечно, улыбалась, делала всё как надо, обещала чтить и уважать мужа, делить с ним горе и радость, но он прекрасно видел, как в уголках её глаз блестели слёзы, а улыбка на губах выходила совсем сдавленной, никудышней. Барон не сомневался: через год–другой Чарген сбежит от него с молодым цыганом и будет скитаться по свету. Ну и пусть! Он не держал её – лишь бы защищала Мирчу, платила за его раны собственной кровью и не позволила умереть раньше старости.
– Принёс? – насмешливо спросила Рада. Зурал в ответ выудил из кармана мешочек с волосами Мирчи и Чарген. Достать их несложно, тем более, что жена спала, словно мёртвая. Не зря ведь он подсыпал ей снадобье в вино. Раньше полудня не встанет, да и не вспомнит ничего.
– Надо было на растущую луну резать, а не сейчас, – цыганка покачала головой. – Но ничего, и с этим поработаем.
Рада села на землю и принялась сплетать локоны в узлы, приговаривая заклятье на старом наречии, так, как учила предыдущая шувани. Её чары были сильнее любовной волшбы и любых зелий. Одно дело – сделать узел так, чтобы пара полюбила друг друга и совсем другое – связать их, чтобы без любви, без чувств и прочих мучений, но по–хитрому. Чтобы дышать друг без друга не смогли в самом прямом смысле. Хотя нет, не совсем. Мирча без Чарген проживёт, а вот она… Она станет подневольной, и не телом, а душой.
Закончив читать заклятье, Рада довязала узлы до конца, затем сложила локоны обратно в мешочек и ушла прочь, затерявшись среди кустарников. Наверное, пошла закапывать. Чтобы чары держались, надо было запрятать волшбу подальше и никому не говорить. Чаще всего сестра вырывала в земле небольшие ямки, помечала место колдовским знаком и уходила, не оглядываясь и не разговаривая ни с кем по три часа. То же самое требовалось от Зурала теперь.
Как только Рада вернулась и кивнула брату, он пошёл обратно в табор. Казалось, луна засияла ещё ярче, хотя куда ей – совсем скоро начнёт светать. Шувани удалилась к себе в шатёр, а Зурал пошёл к жене, которая крепко спала и не ведала ничего. Барон знал, что цыганка проснётся другой, прочувствует, что–то, но понять не сможет. И не надо. Улыбнувшись, Зурал заснул. Теперь его сыну – и всему табору – ничего не угрожало. Никакая хворь не заберёт Мирчу к себе. За это определённо стоило заплатить жизнью одной невольницы.
I
I
I
. Гарь и горечь
1.
– Ай доля тяжкаяааа, ай доля горькаяааааа, – зазвенело совсем рядом. – Пропадаем, чавалэ[13 - Ребята (с цыганск.)], ой пропадаааааем!
Чарген протёрла глаза. Солнце стояло высоко, таборные цыганки бегали, суетясь вокруг кастрюль и двух самоваров. Многочисленные дети вертелись рядом с матерями и путались в пёстрых юбках. Мужчины разбрелись кто куда: одни отправились на рынок, другие в соседнюю деревню, где совсем недавно остановился какой–то барин с добрыми лошадками.
Её собственный муж, барон Зурал, раскуривал трубку, сидя возле шатра. Если раньше он вечно хмурился, то теперь казался совершенно спокойным, аж морщины на лбу разгладились. Сама Чарген чувствовала жуткую тяжесть, как будто в душу запихнули огромный камень, смольный и неподъёмный.
– Проснулась, красавица наша, – сверкнула жёлтыми зубами цыганка. – Ай славная невеста у тебя, баро!
– Тэ явэньти бахтало, ромалэ, – выдавила из себя Чарген.
Она не стала себя обманывать. Будь её воля, лежала бы в постели дальше – уж слишком ноги подкашивались, но желание увидеть Мирчу пересиливало усталость. Чарген низко поклонилась мужу и побежала помогать остальным цыганкам. Всё равно рассвет проспала, в деревню идти было бесполезно – уставшие и голодные люди вряд ли чего–то дадут. Другое дело – рассвет, когда гаджо только просыпались, высовывались из окон и грустно вздыхали.
Голодать им не приходилось – всякий цыган считал честью угостить барона. Часть добытого всегда доставалась Зуралу, а он, в свою очередь, передавал продукты девкам и велел готовить. Вот и теперь Чарген суетилась, помогая отваривать пшеничную кашу. Да и со свадебного пира многое осталось – вся еда лежала на коврах. Что–то, правда, уже растащили.
Свадьба… Чарген бросила взгляд на простыню с червонным пятном в серединке и грустно улыбнулась. Шувани не обманула её – старая Рада сдержала своё обещание: девочка сохранила невинность, а таборные остались довольными. Мужнина жена, тьфу. Чарген одёрнула себя и вовремя повязала платок, пряча волосы. Неужели так и проживёт – в суете, в куче дел да без ласки?
Она прикусила губу и осмотрелась. Мирчи рядом не было. Наверное, пропадал в деревне. Сердце нашёптывало дурное, но Чарген не слушала. Если возьмёт и побежит на поиски, то по табору поползут слухи, и на другой день можно будет собирать котомку и ехать, куда глядят глаза.
Ждать долго не пришлось. Мирча объявился с двумя кобылицами, довольный, потный, уставший. Чарген, закончив готовить ужин, решила проведать Золотка. Рыжий конь стоял неподалёку от шатра. Все знали, что то был подарок. Некоторые цыгане даже присвистывали от зависти, говоря, что за такого красавца можно было получить целый мешок серебра. Чарген улыбалась, чувствуя радость и гордость. Ну стал бы Мирча дарить ей жеребца, если бы ничего, совсем ничегошеньки, не ощущал?
– Хорошо кормишь? – он прищурился и взглянул на коня.
– Да, морэ, – ответила Чарген.
Мирча усмехнулся и хотел было пойти дальше, но она ухватила его за край рубахи и, покраснев, тут же опустила глаза. Цыган удивлённо уставился на Чарген. Что ж, или пан, или пропал.
– Возьми меня с собой в следующий раз, – пролепетала она едва слышно. – Не хочу в таборе сидеть.
Мирча выпучил глаза от удивления, но вовремя взял себя в руки.
– Не выдумывай, девка, – хмуро отмахнулся он. – Не хочешь сидеть в таборе – ступай в деревню да погадай кому.
Чарген проводила его взглядом, полным тоски. Кажется, ещё миг – и она вцепилась бы в него с гортанным криком, а потом упала в ноги и заплакала. Ради Мирчи ведь встала с постели, ради него, клятого, не покончила с собой раньше срока и пережила свадьбу. Но он, конечно же, ничего не подозревал. Какое дело сыну барона до бывшей невольницы, а теперь уже мачехи?
Остаток вечера прошёл как в тумане. Чарген бегала с самоваром наперевес, следила за костром, подбрасывала веток. Когда же цыганки начали отплясывать и голосить, распевая что–то весёлое, она ушла в шатёр и пролежала в постели до тех пор, пока не заснула. Муж её тревожить не стал. Видимо, Зурал о чём–то догадывался, но ничего не говорил вслух, да и Чарген не давала повода для сплетен – всё время ведь находилась при муже и при людях.
2.
Тонкое тело невольницы вилось перед ним змейкой. Мирча тряхнул головой, прогоняя наваждение. Что–то странное сталось с его сердцем после отцовской свадьбы, как будто оно, окаянное, перестало слушаться своего хозяина. Иного объяснения у Мирчи не было. Перед глазами вечно мельтешила маленькая Чарген, которую хотелось притянуть к себе и поцеловать.
Да разве ж она была красивой или богатой? Мирча топнул ногой от досады. Нашёл на кого засматриваться – бывшая невольница, отцовская жена! Не пара ему эта девка, совсем не пара. Но разве ж сердцу прикажешь?
Как его угораздило, Мирча и сам не понимал. Он видел Чарген всего пару раз – и никогда не находил её красивой. Да, ему приходилось знавать цыганок получше, пофигуристее. Чарген с ними и рядом не стояла. И всё же, и всё же…
Мирча горько усмехнулся. Отец ему такого не простит. Если взять девку и сбежать с ней из табора, а через несколько лет вернуться с выводком детей на руках, как делали многие, то… То Зурал не примет его. Подобное можно было простить простому цыгану, но только не сыну баро. На него возлагали хоть какие–то надежды. Мирча, несмотря на свой буйный нрав, был славным конокрадом и мог увести любую кобылицу из–под носа гаджо.
В табор он вернулся поздно, когда уже вечерело. Поначалу он слонялся по перелеску, думая, что делать: кидаться в холодную воду, нестись со всех ног в табор и забирать Чарген или… Нет, он ведь не девка, переживёт! Мирча тряхнул головой, улыбнулся и зашагал прямиком в деревню. Он уже давно приметил там двух годных кобылиц, которых можно было отвести на городскую ярмарку и выменять, получив немало серебряшук и медяков.