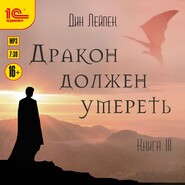По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Дракон должен умереть. Книга I
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Что ничего не осталось.
Она решила поговорить с хозяйкой дома Ингрид, днем, когда мужчины были в море, а дети играли на улице. Та замешивала тесто для праздничного воскресного блюда – пышного пирога, в котором, в отличие от остальных дней, никогда не было ни грамма рыбы или иных даров моря. Джоан долго смотрела, как Ингрид вливает перемешанные яйца и молоко в муку, а потом мнет и мнет тесто руками, пока то не превращается в теплую однородную массу.
– Ингрид?
– Да, Джоан? – ответила та, не поднимая головы и не отрываясь от процесса.
– Мне кажется… – Джоан запнулась. Она не знала, как сказать о своем уходе, не рискуя показаться неблагодарной.
– Все, что кажется, – призрак наших собственных мыслей, – сухо ответила Ингрид поговоркой.
Джоан слегка усмехнулась:
– В таком случае мои мысли настойчиво крутятся вокруг того, что я уже слишком долго здесь нахожусь.
– Долго – относительное понятие.
– Но здесь – абсолютное.
Ингрид бросила на нее короткий взгляд.
– Ты опять говоришь непонятно, девушка.
Джоан собралась с духом:
– Я очень благодарна за то, что вы для меня сделали. У меня нет слов, чтобы выразить, как сильно я чувствую вашу доброту. Если у меня есть возможность за нее расплатиться, я с радостью это сделаю. Но я не могу продолжать увеличивать этот долг.
– Ты уже расплачиваешься, – спокойно заметила Ингрид, разминая тугое тесто тонкими пальцами.
– В смысле?
– Ты помнишь, что случилось в тот день, когда ты пришла к нам?
Джоан вздрогнула. Конечно, она помнила. И конечно же, хотела этот день забыть.
Кажется, в ее жизни не осталось дней, которые ей не хотелось бы забыть.
Ингрид выжидающе смотрела на нее. Джоан вместо ответа медленно кивнула.
– Тогда Кэйя приняла тебя за Олава. Это мой старший сын. Осенью он ушел от нас – сказал, что хочет видеть большой мир на больших кораблях. Я не могла его остановить. Он – свободнорожденный.
Джоан еле заметно вздохнула. Традиция свободнорожденных детей здесь, на западе, была куда сильнее, чем в ее стране. Там, под консервативным влиянием Империи, она постепенно заменялась более суровым и однозначным отношением к семье и браку. Здесь же до сих пор существовал этот обычай.
Испокон веков способность к деторождению считалась главным достоинством женщины при вступлении в брак. И испокон веков же считалось, что проверить это наверняка можно только одним способом – на деле. Из этого выросла традиция – девушка, достигнув совершеннолетия, получала право на полную свободу в своей личной жизни. Она имела право встречаться с кем угодно и как угодно, до тех пор, пока не наступала беременность. С этого момента девушка снова попадала под абсолютную власть семьи – вернее, своей матери, и до самых родов не могла даже перекинуться словом ни с кем посторонним.
Если роды проходили благополучно, мать и дитя оставались в семье ее родителей, а ребенок назывался свободнорожденным. С этого момента – и только с этого – молодая мать становилась потенциальной невестой, и тут уже всякий мог к ней свататься. Если женихом был отец ребенка, то последний утрачивал звание свободнорожденного и становился просто старшим сыном или дочерью.
Однако иногда случалось, что замуж женщину звал вовсе не тот, кто был с ней до этого. В таком случае будущий отец семейства не имел никакой власти над свободнорожденным сыном. До совершеннолетия этот ребенок обязан был во всем беспрекословно слушаться мать, а после становился хозяином своей судьбы и имел право распоряжаться своей жизнью, как ему заблагорассудится.
Свободнорожденный ребенок обладал поразительными возможностями. Если отец был ему известен и признавал ребенка, как своего, последний мог по достижении совершеннолетия перейти в дом отца и продолжать его дело. Имел он также право уйти из дома и выбрать себе совершенно другую жизнь – родители не могли препятствовать ему в этом. Часто бывало, впрочем, что свободнорожденный сын признавал отцом своего отчима – и тогда, опять-таки, терял свое право свободнорожденности, приобретая права наследника. Как бы то ни было, свободнорожденными было подавляющее большинство путешественников, ученых, изобретателей, поэтов и просто искателей приключений.
Но многие, многие матери были оставлены позади, в какой-нибудь глухой и заброшенной деревне, не имея никаких известий о любимом сыне и истово молясь в ночи о его возвращении домой.
Олав, старший сын Ингрид, ушел из дома, как только ему стукнуло шестнадцать. В этих краях он уже считался мужчиной и был таковым во всем, что требовали от него родная деревня и родное ремесло. Но он хотел большего. Его настоящий отец не отказался от него – он погиб за несколько недель до его рождения, оставив на лице Ингрид глубокую вертикальную морщину между бровями. Олав, принадлежащий к этому миру ее скорби и тоски, а не к миру спокойной размеренной жизни с отчимом, отчаянно хотел вырваться из него – и потому еще в детстве решил уйти из дома, как только станет достаточно взрослым. Ингрид знала об этом – но не возражала, не потому, что не могла, а потому, что не хотела. Ей казалось, что с Олавом уйдет последняя, слабая, неискоренимая боль. Но то, что нам кажется – лишь призраки наших мыслей. Она думала лишь о том, чтобы боль ушла – она не догадывалась о том, что на ее место придет новая. Морщина залегла глубже.
Хуже всего было то, что Кэйя – единственная дочь в семье, – была привязана к Олаву больше, чем к своим родным братьям. Было ли дело в том, что он был чуть чутче их, как был чутче его отец, или просто в том, что он был самым старшим и самым мудрым из всех, – но девочка скучала по нему чуть ли не так же сильно, как и его мать, ждала его каждый день из моря и каждый день расстраивалась, когда он не возвращался. Сейчас, спустя полгода, она уже не бросалась всякий раз к морю при виде лодок, но Ингрид видела разочарование на ее личике каждый раз, когда Олава не было среди рыбаков.
До того дня, как к ним не пришла Джоан.
– Ты заменила ей Олава, – тихо сказала Ингрид. – За это я буду кормить и одевать тебя, обогревать и защищать ровно столько, сколько ты этого захочешь. Но ни днем дольше. Ты имеешь право уйти, когда пожелаешь. Только предупреди Кэйю, как следует. Олав решил, что лучше не прощаться. Но он был не прав. Всегда лучше прощаться.
Джоан медленно кивнула и вышла на улицу, не говоря ни слова. Был вечер, с моря дул ветер, кидавший в лицо мелкий песок. Джоан села на краю дюны, как садилась уже много дней подряд, и застыла в абсолютной неподвижности. Этим умением она овладела в совершенстве – застывать.
Она услышала топот ног, визг и писк задолго до того, как дети показались на пляже. Пришлось встать и спуститься на берег – она знала, что Кэйя все равно потребует от нее идти играть. Дети подбежали, закрутились вокруг нее, как чайки вокруг выступающих над водой скал. Кэйя, как обычно, уткнулась в ноги, но общая игра была слишком интересной, и она тоже закрутилась вместе со всеми, и крутилась до тех пор, пока Джоан не взяла ее за руку и не повела домой.
– У тебя есть для меня подарок? – спросила Кэйя бесхитростно и совершенно бескорыстно.
Джоан слегка улыбнулась и покачала головой.
– Нет. Но я надеюсь сделать тебе самый лучший подарок.
– Какой? – пискнула Кэйя возбужденно.
– Увидишь.
* * *
Она стояла и смотрела, как набегающие волны растекаются жидким золотом по мокрому песку, изредка касаясь ее босых ступней мимолетным холодом. Солнце уже медленно опускалось в воду – куда правее, чем в тот раз, когда Джоан впервые наблюдала его здесь. Но и тогда, и сейчас в движении светила была неотвратимая медлительность, величие предопределенности.
Солнце всегда будет садиться в эти воды. Все закончится, песок превратится в пыль, камни станут новым песком – и все равно волны будут жадно ждать, когда красный диск растворится на их поверхности, растекаясь последним неверным теплом по холодной глади…
«Глупости, – подумала Джоан, прерывая саму себя. – Когда пасмурно, ничего нигде не растекается. Темнеет – и все».
Она вздохнула, распрямила плечи и попробовала сосредоточиться.
Так, как учил Сагр.
Сосредоточиться – и одновременно отпустить свои мысли. Потянуться следом за умирающим солнцем, над бесконечной темнеющей водой, и там, за тысячу миль от берега, услышать…
…как воздух застывает над морем бесконечной толщей ночной тишины…
…как тяжело вздыхают киты, на мгновение протекая над волнами темным всплеском плоти…
…как колышутся на глубине водоросли, пропуская сквозь себя серебристые косяки рыб…
Johaneth.
Голос дракона зазвенел в голове, распадаясь на сотни смыслов и значений. Джоан вздрогнула, инстинктивно пытаясь спрятаться от этого многозвучия. Ей понадобилось усилие воли, чтобы не ослабить концентрации и не разрушить связь.
Она решила поговорить с хозяйкой дома Ингрид, днем, когда мужчины были в море, а дети играли на улице. Та замешивала тесто для праздничного воскресного блюда – пышного пирога, в котором, в отличие от остальных дней, никогда не было ни грамма рыбы или иных даров моря. Джоан долго смотрела, как Ингрид вливает перемешанные яйца и молоко в муку, а потом мнет и мнет тесто руками, пока то не превращается в теплую однородную массу.
– Ингрид?
– Да, Джоан? – ответила та, не поднимая головы и не отрываясь от процесса.
– Мне кажется… – Джоан запнулась. Она не знала, как сказать о своем уходе, не рискуя показаться неблагодарной.
– Все, что кажется, – призрак наших собственных мыслей, – сухо ответила Ингрид поговоркой.
Джоан слегка усмехнулась:
– В таком случае мои мысли настойчиво крутятся вокруг того, что я уже слишком долго здесь нахожусь.
– Долго – относительное понятие.
– Но здесь – абсолютное.
Ингрид бросила на нее короткий взгляд.
– Ты опять говоришь непонятно, девушка.
Джоан собралась с духом:
– Я очень благодарна за то, что вы для меня сделали. У меня нет слов, чтобы выразить, как сильно я чувствую вашу доброту. Если у меня есть возможность за нее расплатиться, я с радостью это сделаю. Но я не могу продолжать увеличивать этот долг.
– Ты уже расплачиваешься, – спокойно заметила Ингрид, разминая тугое тесто тонкими пальцами.
– В смысле?
– Ты помнишь, что случилось в тот день, когда ты пришла к нам?
Джоан вздрогнула. Конечно, она помнила. И конечно же, хотела этот день забыть.
Кажется, в ее жизни не осталось дней, которые ей не хотелось бы забыть.
Ингрид выжидающе смотрела на нее. Джоан вместо ответа медленно кивнула.
– Тогда Кэйя приняла тебя за Олава. Это мой старший сын. Осенью он ушел от нас – сказал, что хочет видеть большой мир на больших кораблях. Я не могла его остановить. Он – свободнорожденный.
Джоан еле заметно вздохнула. Традиция свободнорожденных детей здесь, на западе, была куда сильнее, чем в ее стране. Там, под консервативным влиянием Империи, она постепенно заменялась более суровым и однозначным отношением к семье и браку. Здесь же до сих пор существовал этот обычай.
Испокон веков способность к деторождению считалась главным достоинством женщины при вступлении в брак. И испокон веков же считалось, что проверить это наверняка можно только одним способом – на деле. Из этого выросла традиция – девушка, достигнув совершеннолетия, получала право на полную свободу в своей личной жизни. Она имела право встречаться с кем угодно и как угодно, до тех пор, пока не наступала беременность. С этого момента девушка снова попадала под абсолютную власть семьи – вернее, своей матери, и до самых родов не могла даже перекинуться словом ни с кем посторонним.
Если роды проходили благополучно, мать и дитя оставались в семье ее родителей, а ребенок назывался свободнорожденным. С этого момента – и только с этого – молодая мать становилась потенциальной невестой, и тут уже всякий мог к ней свататься. Если женихом был отец ребенка, то последний утрачивал звание свободнорожденного и становился просто старшим сыном или дочерью.
Однако иногда случалось, что замуж женщину звал вовсе не тот, кто был с ней до этого. В таком случае будущий отец семейства не имел никакой власти над свободнорожденным сыном. До совершеннолетия этот ребенок обязан был во всем беспрекословно слушаться мать, а после становился хозяином своей судьбы и имел право распоряжаться своей жизнью, как ему заблагорассудится.
Свободнорожденный ребенок обладал поразительными возможностями. Если отец был ему известен и признавал ребенка, как своего, последний мог по достижении совершеннолетия перейти в дом отца и продолжать его дело. Имел он также право уйти из дома и выбрать себе совершенно другую жизнь – родители не могли препятствовать ему в этом. Часто бывало, впрочем, что свободнорожденный сын признавал отцом своего отчима – и тогда, опять-таки, терял свое право свободнорожденности, приобретая права наследника. Как бы то ни было, свободнорожденными было подавляющее большинство путешественников, ученых, изобретателей, поэтов и просто искателей приключений.
Но многие, многие матери были оставлены позади, в какой-нибудь глухой и заброшенной деревне, не имея никаких известий о любимом сыне и истово молясь в ночи о его возвращении домой.
Олав, старший сын Ингрид, ушел из дома, как только ему стукнуло шестнадцать. В этих краях он уже считался мужчиной и был таковым во всем, что требовали от него родная деревня и родное ремесло. Но он хотел большего. Его настоящий отец не отказался от него – он погиб за несколько недель до его рождения, оставив на лице Ингрид глубокую вертикальную морщину между бровями. Олав, принадлежащий к этому миру ее скорби и тоски, а не к миру спокойной размеренной жизни с отчимом, отчаянно хотел вырваться из него – и потому еще в детстве решил уйти из дома, как только станет достаточно взрослым. Ингрид знала об этом – но не возражала, не потому, что не могла, а потому, что не хотела. Ей казалось, что с Олавом уйдет последняя, слабая, неискоренимая боль. Но то, что нам кажется – лишь призраки наших мыслей. Она думала лишь о том, чтобы боль ушла – она не догадывалась о том, что на ее место придет новая. Морщина залегла глубже.
Хуже всего было то, что Кэйя – единственная дочь в семье, – была привязана к Олаву больше, чем к своим родным братьям. Было ли дело в том, что он был чуть чутче их, как был чутче его отец, или просто в том, что он был самым старшим и самым мудрым из всех, – но девочка скучала по нему чуть ли не так же сильно, как и его мать, ждала его каждый день из моря и каждый день расстраивалась, когда он не возвращался. Сейчас, спустя полгода, она уже не бросалась всякий раз к морю при виде лодок, но Ингрид видела разочарование на ее личике каждый раз, когда Олава не было среди рыбаков.
До того дня, как к ним не пришла Джоан.
– Ты заменила ей Олава, – тихо сказала Ингрид. – За это я буду кормить и одевать тебя, обогревать и защищать ровно столько, сколько ты этого захочешь. Но ни днем дольше. Ты имеешь право уйти, когда пожелаешь. Только предупреди Кэйю, как следует. Олав решил, что лучше не прощаться. Но он был не прав. Всегда лучше прощаться.
Джоан медленно кивнула и вышла на улицу, не говоря ни слова. Был вечер, с моря дул ветер, кидавший в лицо мелкий песок. Джоан села на краю дюны, как садилась уже много дней подряд, и застыла в абсолютной неподвижности. Этим умением она овладела в совершенстве – застывать.
Она услышала топот ног, визг и писк задолго до того, как дети показались на пляже. Пришлось встать и спуститься на берег – она знала, что Кэйя все равно потребует от нее идти играть. Дети подбежали, закрутились вокруг нее, как чайки вокруг выступающих над водой скал. Кэйя, как обычно, уткнулась в ноги, но общая игра была слишком интересной, и она тоже закрутилась вместе со всеми, и крутилась до тех пор, пока Джоан не взяла ее за руку и не повела домой.
– У тебя есть для меня подарок? – спросила Кэйя бесхитростно и совершенно бескорыстно.
Джоан слегка улыбнулась и покачала головой.
– Нет. Но я надеюсь сделать тебе самый лучший подарок.
– Какой? – пискнула Кэйя возбужденно.
– Увидишь.
* * *
Она стояла и смотрела, как набегающие волны растекаются жидким золотом по мокрому песку, изредка касаясь ее босых ступней мимолетным холодом. Солнце уже медленно опускалось в воду – куда правее, чем в тот раз, когда Джоан впервые наблюдала его здесь. Но и тогда, и сейчас в движении светила была неотвратимая медлительность, величие предопределенности.
Солнце всегда будет садиться в эти воды. Все закончится, песок превратится в пыль, камни станут новым песком – и все равно волны будут жадно ждать, когда красный диск растворится на их поверхности, растекаясь последним неверным теплом по холодной глади…
«Глупости, – подумала Джоан, прерывая саму себя. – Когда пасмурно, ничего нигде не растекается. Темнеет – и все».
Она вздохнула, распрямила плечи и попробовала сосредоточиться.
Так, как учил Сагр.
Сосредоточиться – и одновременно отпустить свои мысли. Потянуться следом за умирающим солнцем, над бесконечной темнеющей водой, и там, за тысячу миль от берега, услышать…
…как воздух застывает над морем бесконечной толщей ночной тишины…
…как тяжело вздыхают киты, на мгновение протекая над волнами темным всплеском плоти…
…как колышутся на глубине водоросли, пропуская сквозь себя серебристые косяки рыб…
Johaneth.
Голос дракона зазвенел в голове, распадаясь на сотни смыслов и значений. Джоан вздрогнула, инстинктивно пытаясь спрятаться от этого многозвучия. Ей понадобилось усилие воли, чтобы не ослабить концентрации и не разрушить связь.