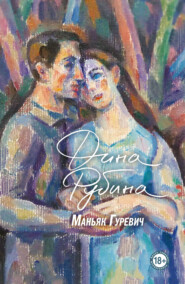По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Вот идет Мессия!..
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Она всех собою обволакивает. Да и прикиньте – сколько их здесь, знаменитостей? Раз, два и обчелся, товар штучный. (Хотя, с другой стороны – ситуация проживания в крошечном замкнутом обществе чревата обветшанием имиджа. Пропадает куда-то у восторженных масс пиетет, дистанция. Большое, как известно, видится на расстоянии, а расстояния-то здесь кот наплакал, из конца в конец страны на автобусе пять-то часиков. Поневоле большое раздражает, загромождает, хочется его отодвинуть, задвинуть в угол, наконец, отдать кому-нибудь, сирийцам что ли…)
Иногда вот задумаешься и даже испугаешься: а чего ж она, Ангел-Рая, в конце концов хочет? Ну не миром же, в самом деле, править? Хотя, еще пару-тройку таких вот ангелов… и чем вам не заговор сионских мудрецов? Кроме шуток. Зайдешь к ней по соседству – она, лапонька, сидит на краешке дивана, в халатике, старательно красит перед зеркалом ресницы и светло так говорит: «А у нас вчера было открытие „Клуба любителей оперы“. Правда, здорово, мась? – снимет мизинцем с ресницы излишек туши и добавит: – Я люблю, когда всем хорошо… Главное, чтоб людям было куда прийти».
Загадка. Вот как хотите – загадка!
Писательница N. выпила воды из крана – о, какая мерзкая вода в этой земле, текущей молоком и медом!.. – раскрыла тетрадь и написала: «Ангел-Рая. Крошка недюжинного, государственного ума. Женщина-учреждение. Канает под кошечку. Ходит, вертит задом – настоящим задом старинной ручной работы. Сейчас таких не делают. Сейчас редко встретишь женщину со столь добротным обоснованием всего сущего на земле… Вообще – Ангел с нежнейшим голосом. Любит быть в курсе не то что всех событий и веяний, но стоять у истоков, зачинать, держать в руках нити, поворачивать штурвал, греть под крылом, высиживать, сладко интриговать, нежно, небольно убивать соперника, да и не убивать вовсе (что это я!), а растворять в некоем вязком сиропе, тихо помешивая ложкой варево. Напевая при этом колыбельную песнь. Обладает способностью возникать одновременно в нескольких местах».
Зазвонил телефон. Опять она забыла отключить это проклятье цивилизации! Ну, подойти или не подходить?
Она пропустила звонка два-три, надеясь, что муж сжалится над ней, подойдет к телефону и защитит, отгонит, как комара-кровососа, очередного знакомого-приятеля-автора-старушку.
Конечно, не подошел, эгоист несчастный.
Телефон звонил. Она притащилась в комнату и сняла трубку.
– Мамка! Только не перебивай и не пугайся! – торопливо и жалко, и как-то сдавленно проговорил ей в ухо, и – как ей показалось – прямо в больной мозг – голос старшего сына. Она рухнула в кресло рядом с телефонной тумбочкой.
– Где ты?! – спросила она.
– Только не кричи… я сбежал из армии… Все, надоело! Я… я не хочу… эти проклятые грузовики… я не могу… я ему сказал, что…
– Свола-а-ачь!! – заорала она страшным утробным ревом. Так она не кричала даже тогда, когда рожала этого крупного и по сей день бессмысленного ребенка. – И-ди-о-от!!! Говнюк паршивый!
Грохнув мольбертом, выскочил из мастерской муж, обхватил ее трясущиеся плечи, сжал. Он сразу все понял, чего уж. Сын был такой. Сюрпризник.
– Тебя посадят в тюрьму, паскуда, дерьмо собачье!!! – орала она исступленно.
– Мамка, спаси меня… – плачущим голосом проговорил он.
Сердце ее оборвалось.
– Где ты?
– Здесь, рядом с воротами базы. Я сказал, что выйду за сигаретами.
Ну, не болван? Она физически ощутила, как разжались, распустились сведенные в судороге внутренности.
– Сынок! – проговорила она негромким командным голосом. Руки ее тряслись. – Успокойся и немедленно вернись на базу… Я выезжаю сию минуту. Я все улажу… Не бойся. Все будет хорошо…
Потом она металась по дому в поисках чистой блузки и не мятой юбки, и муж, чувствуя себя бесполезным (он плохо говорил на иврите и к тому же должен был встретить из школы младшего), – виновато помогал ей застегнуть тесный лифчик.
Потом она умылась, припудрила истерзанное лицо, выпила еще одну таблетку от мигрени и, прихватив сумочку, выбежала из подъезда в адово пекло, жарь и муть, безвоздушное пространство хамсина.
Муж глядел из окна, как она шла через дорогу к остановке автобуса. Ей предстоял долгий и кошмарный путь – с несколькими пересадками и ловлей тремпа под солнцем, на грохочущем грузовиками перекрестке – на военную базу, куда-то под Ашкелон.
Писательнице N. – и надо сказать, известной писательнице, – предстояли сегодня немыслимые унижения…
5
Тель-Авив отличался от Иерусалима куда больше, чем может отличаться просто приморский пальмовый город от хвойного города на горах. Здесь по-другому текло время, иначе двигались люди. Они иначе одевались – будто невидимое око, что вечно держит стражу над Иерусалимом, здесь опускало веко и засыпало, позволяя обитателям побережья жить так, как в Иерусалиме жить просто непозволительно. Оно, до времени, спускало им многое, чего бы не спустило жителю Святого города, вынужденного дышать разреженным воздухом над крутыми холмами.
Иерусалимцы, когда им нужно было съездить по делам в Тель-Авив, говорили: «Сегодня я должен спуститься». Тель-авивцы не представляли, как можно жить в городе, каждую минуту предъявляющем тебе счет к оплате.
Зяме нравились только тель-авивские старухи с их аккуратно подбритыми, седыми волосами на морщинистых шеях, похожих на растрескавшуюся летом глинистую почву – такыр, с их малиновым маникюром на пальцах, с шестизначными лагерными номерами, выколотыми на дряблых руках.
Возвращаясь с работы, Зяма свободно вздыхала лишь тогда, когда автобус въезжал в «Ворота ущелья», откуда начинался подъем в город по Иерусалимскому коридору.
Отсыпалась она обычно в автобусе, на обратном пути в Иерусалим.
Кайф прилипшей за эти несколько лет привычки: вскарабкаться по неудобной угластой лесенке на второй этаж, при этом непременно получив по зубам стволом «узи», свисающим с мясистой задницы какой-нибудь восходящей впереди тебя солдатки.
Второй этаж – мечта идиотки: умоститься в ворсистое кресло у окна и задремать… Уснуть. И видеть сны.
И дремать на всем протяжении пути, блаженно ощущая безопасность дороги.
Впрочем, относительную безопасность. Года за полтора до их приезда на этом шоссе Тель-Авив – Иерусалим, на участке горного серпантина, погибла тьма народу, вот в таком автобусе. Дело обычное: террорист вырвал у водителя руль и направил автобус в пропасть. Ну, и так далее.
И все-таки. Все-таки это вам не разбитая дорога через арабскую деревню Аль-Джиб…
Забавно, что просыпалась она на одном и том же отрезке пути, на вираже, где шоссе подкатывало и бежало несколько сот метров вдоль чудной картинки, местечка Бейт-Зайт: виллы под черепичными крышами карабкаются в лесистую гору, подпирающую Иерусалим.
Она просыпалась, разминала занемевшими руками шею… Минут через десять выскакивала из автобуса в бестолковщину автостанции, битком набитой солдатами, хасидами, нищими, широко шагающими пожилыми монахинями с опрятными лошадиными лицами, белобрысыми скандинавами, у которых со лбов и ушей свисают перевитые цветными нитками косицы. Со статными чернобородыми красавцами – священниками армянской церкви, с давно уже не новыми новыми репатриантами, что-то дотошно выясняющими у девушки в информационном окошке…
Странно, что и здесь, то натыкаясь на автомат, то спотыкаясь о брошенный посреди тротуара вещмешок, она все еще физически ощущала и берегла, даже баюкала в себе это чувство личной безопасности. Странно и глупо: чуть ли не каждую неделю станцию оцепляла полиция, теснила по сторонам толпу, и люди привычно ждали, когда разберутся с очередным подозрительным тюком под скамейкой…
Ну-с, автобус номер двадцать пять до Французской горки. Вот и все.
Здесь, на развязке дорог, жизнь разделялась, как и дороги: за спиной оставались многоэтажные дома респектабельного района Гиват-Царфатит, направо шоссе ныряло под новый мост и мимо белого безмятежного городка на горе – Маале-Адумим – уводило к Мертвому морю.
Прямо – стратегическое шоссе на Шхем, проложенное сквозь густонаселенные арабские города Рамалла и Аль-Бира. По краям этого шоссе, сразу за перекрестком, начинались виллы арабской деревни Шоафат.
Налево пойдешь… Направо пойдешь… Прямо пойдешь. В этом месте, на обочине шоссе, на асфальтовом пятачке возле затрапезной, бобруйского вида синагоги, ждали тремпа жители поселений северной ветки. Сюда, к пятачку, и подкатывал номер двадцать пятый, и здесь, рядом с врытой в землю деревянной скамьей и телефоном-автоматом под металлическим козырьком, можно было топтаться часами. Зимой – под проливным дождем, летом – обморочно уплывая в сухом печном жару.
Номер этого телефона-автомата знали все поселенцы, на тремп звонили.
Вот и сейчас зазвонил телефон. Зяма сняла трубку. Детский голос сказал насморочно:
– Леу, тремп? Позови маму. Рони обкакался и плачет.
– А кто – мама? – спросила она. В трубке подумали, вспоминая.
– Мири. Мири Кауфман из Кохав-Яакова.
Она обернулась и крикнула в небольшую группку поселенцев:
– Мири Кауфман – Кохав-Яаков – есть?
Тонкая, в свободном черном платье женщина, с рюкзаком за плечами, по-солдатски отчеканив: «Я!», метнулась к телефону.