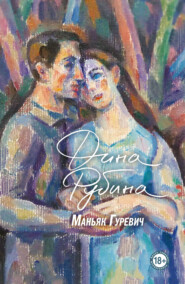По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Цыганка (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О чем ты говоришь! Я замужем давно была. Муж мой, Боба, поляк, он был черный график – знаешь, что это такое? Это когда автор пишет научную книжку с чертежами и в рукописи рисует почеркушки всякие, а художник, график, по его наброскам делает отличные чертежи для книги… Боба страшно был добрый, мы жили в коммуналке, с соседями, так он соседскую девочку очень баловал. Деньги давал – на конфеты, на мороженое. На аборты… Ну, позже, разумеется. Но страшный был игрок! Такая моя пожизненная беда, что поделаешь… Играл ночами… Однажды я прождала его всю ночь, а он пришел под утро. Я была страшно разъярена. Открываю дверь, а он держит перед собой на вытянутых руках блюдо – подлинный Федор Толстой. Выиграл. Ну, что ты ему скажешь. Во-он оно, висит над тахтой. Он потом мне шали выигрывал, длинное серое платье из ангорской шерсти… И, главное, все эти выигрыши-проигрыши они обсуждали с соседской домработницей Феней, тоже заядлой картежницей. Но Феня играла в дворницкой, а Боба – в высших сферах.
– А у вас, вы говорили, тоже домработница была…
– Так это Сура наша, Сара Яковлевна. Это так только считалось, что она у меня была домработницей. На самом деле впечатление было, что я у нее домработница.
Женщина подлинной судьбы, соответствующей веку. В юности муж ее бросился в партию, она – в комсомол. Его в положенное время расстреляли, а ее на каком-то собрании хотели заставить признать его врагом народа. Сура сказала: «Если он враг, то кто же вы тогда?» Ее вывели прямо из зала. Десять лет без права переписки. Двое малолетних детей, их разобрали родственники. Она отсидела одиннадцать лет, говорила: «Меня спасло то, что я месила тесто. Иначе бы я сдохла». Знаешь, огромные плечи… Я потом даже со спины в бане научилась распознавать такую еврейскую фигуру: мощные плечи, большой бюст и сравнительно узкий таз. Так вот, Сура. Она таким ярким языком говорила, такие словечки выговаривала – к нам гости, бывало, придут, и каждый старается с Сурой Яковлевной разговориться. А потом наши семейные словечки разносятся по всей Москве…
У меня была птица знакомая, одноногая голубь. Прилетала ко мне на свидания, я ее кормила. Почему одноногая? Добрые люди оторвали. Сура говорила: «Прилетала ваша голуб. Она так кричала, так кричала, даже войла!»
– Евгения Леонидовна, а ведь время было какое… людоедское…Как вам в те годы жилось-то?
– А, знаешь… Да, людоедское. Оно, конечно, так… Вот говорят, мы все в страхе жили. Но… как бы это тебе объяснить некрамольно, по-человечески… Мы весело жили. Мы были молоды, зарабатывали приличные деньги, часто ходили в рестораны – «Националь», «Континенталь»… Танцевали…
– Что танцевали?
– Бостон, танго, чарльстон… Домой возвращались часам к пяти утра. И если видели перед подъездом черную машину, то прощались друг с другом.
А летом… как ехали в Рыльск? Поездом до Курска, потом пересесть, потом нанять лошадку худенькую и сорок километров лошадкой. Поселиться у пани Ващук, самогонщицы… Меня она называла «пани млода Ракицка». В первую ночь уложила нас спать на перине, такой, что мы не могли найти друг друга… потом спали во дворе под грушей, на нас падали спелые плоды – груши познания. А главное событие было – приезд театра из Курска. Пани Ващук надела лучшее платье, на бретельках, «брильянты» – вся шея, все руки унизаны были блестящими камешками… Сидела гордо, прямо, оглядывалась вокруг – все ли видят, что рядом с ней сидят друзья «с Москвы»?
Что это был за театр! Ничего смешнее я в жизни не видела. Пьеса называлась «Платок и сердце» – из крепостной жизни. Главный герой-любовник во фраке из лыжного костюма. Потом шли балетные номера. Мы старались не смеяться, нас бы растерзали. Это было грандиозное событие – в городке, где последней сенсацией было убийство царевича Димитрия.
– Евгения Леонидовна, ну а когда все началось-то, ваше дело, вот эта ваша фарфоровая судьба знаменитая?
– Ну ты сразу: знаменитая! Погоди… Мое дело, говоришь… С чего началось Дулёво? Это все опять Александр Терентьевич. Он нам дал задание – это было под конец войны – сделать дома эскиз, композицию на вольную тему, и принести ему на показ. И все несли кто что: кто там с винтовкой, кто с гранатой, кто ползет, кто выполз, кто недополз. Одна у нас была, считала, что она лучше всех, – поставила какой-то обелиск, вокруг каких-то женщин томных пораскидала и заявляет: «Это эскиз памятника падшим женщинам». Хохот поднялся немыслимый. Она: «Чего вы смеетесь?». Матвеев ей: «Памятник павшим!» – «Ну, я же и сказала: падшим!» Потом я развернула свою работу, и хохот уже стал просто гомерическим. У меня шел медведь и нес на руках Татьяну, которая упала в обморок.
– «И снится чудный сон Татьяне»… Известная ваша композиция.
– …Я людей лепила тогда отвратительно. Медведей – ни разу. Так что чудесная была группа. А Матвеев так задумчиво смотрел-смотрел… и вдруг говорит: «Но это же совершенно фарфоровые затеи!»
– Так и сказал – «затеи»?
– Да, говорит: «Совершенно фарфоровые затеи… Вы попроситесь на практику в Дулёво». Я говорю: «Ну кто меня примет?» А он: «Я напишу письмо. И поезжайте туда. Вы увидите, у вас все получи…»
2. Дулёво
– Ну вот, здравствуй… Это ты молодец: сказала в десять, явилась в два. Молчи, я понимаю, дела и мишура, жизнь, любовь, измена, месть. А мы с Гуленькой тебя очень ждем. Гуленька, ну где ж ты, покажись, тетка же приличная оказалась, хвосты порядочным людям не поджигает… нет! Вот непреклонная душа! Диван, оно надежнее…
Среди всех моих зверей – а ты можешь представить себе эту армию? – Гуленька самая кроткая, самая деликатная. А самым благородным был Зять. У нас такая любовь была неистовая. Он караулил гаражи во дворе. За это ему кто кость бросит, кто супчика вынесет прокисшего, а кто и вовсе о нем забудет. В общем, пес безымянный, простолюдин. Но он интересен тем, что был необычайно длинный, ну, как столб.
– Так он такса был?
– Он был никто. Просто длинная собака. Ну, представь себе дога, который вырос под диваном. Выгнутые ножки, вот такая большая черная голова и белая маечка. И наступила зима… Никто им не интересовался, про него все забыли. Он попросился в подъезд к человеку, о котором думал, что тот добрый. Погреться у батарейки зимой, 23 градуса мороза… А тот отпихнул его ногой, отогнал его. Я это видела из окна, спустилась прямо в халате вниз, говорю: «Пойдем жить ко мне». И он поверил. Оказывается, он по лестницам не умел ходить, ни разу не ходил, представляешь? Добрались мы с ним с грехом пополам, я налила ему супца с мясом, сложила вдвое ваточное одеяло… Он набросился на еду, лег и проспал двадцать два часа. Потому что очень настрадался. Потому что понял, что никто не пнет, не ударит… Кротости неземной. А кто из гостей его Зятем назвал, не помню. Лицо у него было – ну, «морда» же не скажешь – мудрейшее, глаза, как на портретах голландских мастеров… Такой великолепный был пес. Хромой. Судьба их ко мне приводит…
…Ну, давай уж сразу чай пить, в тот раз ты меня провела: некогда-некогда, да и хвостом вильнула…
– Просто пленка закончилась, а другой не запаслась…
– Сегодня запаслась? Идем на кухню…
– Только я сама все буду делать, ладно?
– Давай, черт с тобой. Я здесь, в любимый угол законопачусь и буду командовать. Лимон возьми, нарежь тоненько… Умеешь? Чашки на второй полке, слева. Там же хлеб. А сыр в холодильнике, в дверце. Там – трех сортов от трех гостей… Только мне завари крепкий, чифирь…
– А сердце?
– А плевать… Ну, пошла проводки разматывать…Розетка позади тебя. Постой, ты почему маслом хлеб не мажешь? Вот то-то…
– Евгения Леонидовна… Мы в прошлый раз остановились…
– Слушай, а может, ну ее к лешему, эту мою жизнь? Столько есть вещей интересных. Лучше ты вот расскажи…
– Евгения Леонидовна!!!
– Ну хорошо, хорошо! сразу и гром и молния. А мы про что говорили в тот раз?
– Про Дулёво. Как все начиналось…
– Как начиналось… я про Александра Терентьича Матвеева рассказывала? Как он мне письмо написал рекомендательное в Дулёво… Ну вот… А ехать туда в то время было так. Сперва, чтобы успеть на поезд, шестичасный – пешачком идти с площади Восстания на Курский вокзал. Пришла. Села, сижу на скамье. А рядом стоит… Ну, это нельзя не рассказать. Стоит у чугунной печки махонькая такая женщинка, вот такая, как я сейчас. Кроха в митенках. Ну, и поскольку нас двое оказалось в такую рань, завели разговор. Я спрашиваю: а вы далеко едете? Не знаете, как лучше в Дулёво добираться? «Это я не знаю. Я поеду до Орехова. Я хожу по поездам, пою». Я не сразу поняла, что это ее заработок. Что, спрашиваю, поете? «Ну то, что знаю, что смолоду пела. Хотите, вам спою?» – «Да я ж тут одна, что с меня взять». – «Все-таки я вам спою…»
Забыла этот романс… «Она была мечтой поэта…» Нет, не помню. Но сидела, слезами умывалась. Она говорит: «Хотите, еще что-нибудь спою?» – «Нет, я не хочу вся зареванная приехать в это треклятое Дулёво!» Она еще постояла и ушла…
– Но вообще-то песни, что в поездах на милостыню поют, всегда очень жалостливые…
– Одна была просто гениальная! «Соловушка где-то в саду-у-у…» Нет, он сперва входил – в черных очках, глубоко слепой человек, с вот такой гармошечкой – и громким уверенным голосом говорил: «Братья, сестры, я вас не виззжу, я не виззжу бозжжий свет, но я вам спою!» И вот он пел: «Соловушка где-то в саду-у-у, в гуще душистой сире-е-ени песенку пел о любви-и-и, клялся любить без изме-е-ены. Я ли тебя не люби-и-и-л, я ль на тебя не моли-и-и-лся, след твоих ног цалова-а-а-л, чуть на тебе не жени-и-и-лся!»
– Жуть как трогательно…
– А дальше так: «Я пред тобой провини-и-и-лся, ты торопливо ушла, так я и не извини-и-и-лся. Зачем же так горько страда-а-а-ть, зачем так безумно влюбля-а-а-аться. Любовь не умеет проща-а-а-ть, любовь не умеет смея-а-аться»!
– Потрясающая песня!
– Я говорю: «Вы сами ее сочинили?» «Да нет. Ее все поют. Городской романс». «Спойте еще раз, я вам дам 3 рубля. И запишу слова».
Три рубля тогда были как сейчас 300. А он мне: «За 3 рубля я вам сам слова напишу!» Снял черные очки, глазки вострые такие оказались, видел, конечно, не хуже нас. Достал вот такой огрызок карандаша. Послюнявил и записал слова. Ну как я могла тогда, дура набитая, не оставить этот документ! В нем было девятнадцать с половиной ошибок. Но такая прекрасная песня!
Так вот, под всякую энтую музыку три часа надо было ехать на поезде до 85-го километра. Там, как тогда говорили, «вылазить» надо, и с сумочкой заплечной, в которой еда, идти пешком семь с половиной километров до сухой дощечки-указателя «Дулёво». И всё маленькими деревнями… Все кругом интересно, все мне нравилось… Так, значит, «Дулёво» сюда, а напротив – Ликино… Не помню у какого писателя, кажется, у Чапека, непрерывная война саламандр… Так у них тоже было, у Дулёва с Ликиным. У них вражда происходила на общем стадионе. Начиналось все с футбольного матча. А Ликино – это же бывшая морозовская мануфактура. Ткачихи, понимаешь? А с нашей стороны, с дулевско-фарфорской, выходили гончары-керамисты, здоровенные бугаи. Ну, сходились на этом поле, жаждали драки. Всем не важно было, чем кончался матч, им бы только дождаться, чтоб он скорее кончился – броситься друг на друга!
И вот тогда я поняла, что это такое – настоящие ткачихи. Они уносили на плечах своих побежденных мужей, избитых до полусмерти нашими бандюками. «Матч» этот обсуждался потом неделю до следующего побоища. Это было вообще-то смешно. Но в первый раз я была потрясена эпической картиной: как женщины высыпали на поле и разбирали своих мужей. Там же здоровенные бабины работали, и все страшно громко разговаривали, потому что в ткацких цехах очень шумно, и они привыкли орать, чтоб друг друга слышать. А привыкши так орать, они уж не стеснялись ни в выражениях, ни в тембре голоса.
– Евгения Леонидовна, расскажите про первый свой день в Дулёво.
– Ну вот я тебе и рассказываю. Пришла, значит… Попала в перерыв. Было начало первого. А перерыв кончится в два. На проходной мне сказали – вы посидите, подождите… Рядом был такой скверик. Тополя, каких больше нигде на свете нет. Это я ответственно тебе говорю. Выше пятиэтажного дома. Просто уходили в небо. Стволы толстые-претолстые. Шелест у них нежный такой…
– Серебристые тополя?
– Серебристые, да… И где-то там среди листвы был замаскирован серебристый матюгальник, который в это время играл серебристого Мендельсона. А на земле кругом, как посмотришь – такая яркая, особенная серебристо-зеленая мурава… Я сидела, млела и думала: господи, какие счастливые люди, которые тут живут и работают! А тут еще откуда ни возьмись явилось шестеро белых гусей. Невиданной величины гуси, ну как диван. Никого не боялись, шли так, будто они хозяева всего тут вокруг. Ко мне подошли: ты кто такая? Словом, я была ослеплена Дулёвым еще до того, как переступила порог проходной.
– А потом?