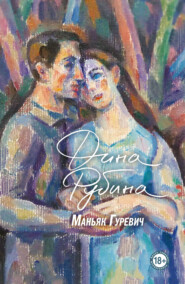По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вавилонский район безразмерного города
Автор
Серия
Год написания книги
2019
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Почему я не отзывалась на этот умоляющий зов – мне до сих пор непонятно.
Продолжала тихо лежать, уплывая в звездное окно плакучей ивы, плавясь в тихой истоме блаженного полуобморока…
В конце концов бабка набрела на меня, вздернула с земли, плача и ощупывая с головы до ног.
Мы поплелись домой: она – обессилевшая после стольких часов волнения и слез, я – восставшая от странного сна.
Я ничего не объясняла, да и не смогла бы объяснить, и бабка, видимо, решила, что я просто заснула там, под деревом, потому и не успела испугаться темноты и кладбищенской заброшенности.
Вечером брат был исстеган самолично моей мамой, явившейся после работы навестить дочь и родителей. Узнав о моем приключении, она схватила со спинки стула дедов ремень и увалисто погналась за племянником вокруг стола (она донашивала мою младшую сестру), пытаясь достать поганца. Тот ловко уворачивался, скакал по стульям, взлетал на стол, спрыгивал на топчан, где долгие месяцы кротко умирал от рака дед, дразнил маму и смеялся; правда, и получал время от времени, и тогда взвизгивал, словно от удовольствия, яростно расчесывая место удара…
Но звон и шепот летнего дня и полное звезд окно в темной кроне одинокой ивы с тех пор навсегда слиты в моей памяти со старым мусульманским кладбищем…
К чему я мысленно расставляю фигуры для очередного драматического спектакля на открытой сцене моего неугомонного воображения? Словно мне предстоит рассказать о некоем волнующем событии… Вздор: ничего особо волнующего не помню. Вот только один эпизод… я назвала бы его обратной рокировкой на круги своя.
И это тоже было на каникулах, на летних: во двор въехал грузовик с мебелью, в кузове которого, обняв ореховый буфет без дверец, стоял мой дядька с почерневшим лицом.
Машина подползла к веранде, борта со стуком откинулись, и водитель с дядей принялись втаскивать в дом наспех связанные тяжелые узлы, из которых свисали бессильные рукава и горловины платьев и свитеров. Из кабины упруго выпрыгнул мой брат, раскрасневшийся, возбужденный, и, пока дядька молча сновал из дома к машине, принимая на спину и плечи тюки и мебель, захлебывающимся от восторга шепотом рассказывал на веранде растерянной бабке, как папа стоял перед той на коленях, умоляя остаться и простить.
– Ни хрена ему не помогло! – с торжеством приговаривал братец свистящим фальцетом. – «Умоляя-а-аю: прости и оста-а-анься»!.. Ни хрена не помогло!
Ума не приложу, за что мог просить прощения у женщины мой святой дядя, но догадываюсь, что только за сына – паскудник был невыносим. И судя по тому, с каким восторгом, обхватывая обеими руками невидимую бочку перед собой, тот демонстрировал дружкам во дворе размер «Лизкиных титек», полагаю, что та его застукала за подсматриванием. Могу только предположить, что Лиза настаивала на удалении этого оболтуса из дома, а дядя, отлично сознавая, до чего может тот докатиться без отцовского пригляда, не согласился…
Понимала ли я тогда, что на моих глазах происходит одна из тех незаметных прекрасных драм, на которые в конце пути ты оборачиваешься с благодарными слезами? Да нет, конечно. Все поистине драматические события моего детства выглядят сейчас сценами из кукольного спектакля – да детство и не умеет сопереживать иначе. В те минуты картина душераздирающего объяснения в духе индийских мелодрам, заполонивших и покоривших Ташкент, воссияла во всю ширь мечтаний семилетней дуры, и я испытала восторг не меньший, пожалуй, чем мой окаянный брат.
Между прочим, бабка тоже любила индийские мелодрамы.
Однажды пошла со мной на дневной сеанс в кинотеатр «Тридцать лет Ленинского комсомола», на фильм «Рама и Шама», где всхлипывать начала, кажется, на титрах в начале, а в конце уже рыдала в голос. Мне странно это вспоминать: в ее характере не было ни грана сентиментальности. Вероятно, тут срабатывало некое эмоциональное сопереживание. Хотя ее насмешливый артистизм придавал всему, на что она смотрела, холодноватое отстранение: актеры вообще редко бывают сентиментальными.
И, как любой актер, она была напичкана байками и притчами – только не заемными, а почерпнутыми в собственной жизни и в жизни местечка Золотоноша. У нее и притчи об ангелах были похожи на рассказы о соседях и родственниках. Так, в детстве я много раз слышала о Самаэле и Гавриэле, лихой парочке ангелов, порученцев самой Смерти; они шлялись по миру, выглядывая подходящую дичь, каждый со своим подручным инвентарем. Такими вот баснями потчевала внучку моя артистичная бабка:
– Двое их, – говорила она деловито, будто обсуждала с соседкой купленную на Алайском курицу. – Двое их у нее на подхвате: ангел смерти Самаэль и ангел смерти Гавриэль. Самаэль – тот приходит за грешниками со щербатым ножом, еще и ядом отравленным. О-о-от такой секач, не дай боже! – показывала руками, как рыбак отмеряет размер пойманной рыбы. – А Гавриэль – того за праведниками посылают. Нож его отточен, остер, как бритва, на солнце сверкает. Ударит этим ножом точно в грудь – и отправит тебя прямо в рай!
– Меня?! – пугалась я. Мне тогда не очень хотелось в рай. Да и сейчас не очень хочется.
– Зачем – тебя? Ты что, мамэлэ, не дай боже… ты ж махонькая! Это я так, к примеру… К тому, что о божьем наказании надо помнить.
Кстати уж, о наказании.
В конце жизни она явила свою лютую натуру во всей блистательной полноте; можно сказать, сживала со свету родную сестру Берту. Дед к тому времени давно умер, умер и Бертин муж, любимый мой дядя Миша, а старухи все тянули упряжку несносимых генов семейства Когановских. Так вот, в конце жизни – после того как знаменитое землетрясение полностью изменило облик Ташкента и в центре его выросли районы безликих новостроек, в одном из которых мой дядька с третьей, окончательной женой получил квартиру, – обе старухи оказались в соседних комнатах. То ли ревнуя, то ли припоминая все грехи Бертиной жизни, бабка азартно преследовала сестру где и как только могла.
– Побойся Бога! – кричал ей собственный сын, мой постаревший дядька, ярый приверженец советской власти и ярый безбожник, само собой. – Бога побойся!
(Увы, вся наша семья склонна к мелодекламации.)
Иногда, впрочем, он кричал что-то вроде: «Совесть имей!» – и я уже тогда в этом чувствовала снижение пафоса, как если б Шекспира на сцене заменил какой-нибудь советский драматург. Бабка с невозмутимым видом отворачивалась: она плевала на этот самый божий суд. А может, настолько была уверена в заступничестве деда Сэндера – там, откуда высылают небесного гонца с орудием казни? Может, надеялась, что во исполнение цехового братства резников дед в последний момент уломает тамошних заменить Самаэля с его ужасным щербатым тесаком на милосердного резника Гавриэля, дабы тот опытной рукой пронзил мою грешную бабку сияющим ножом блаженства?..
По ее рассказам получалось, что была раньше какая-то другая жизнь. Бабка училась в гимназии целых три года, как ни крутите, и влюбленный художник писал с нее «портрэт». Странно, думала я, почему жизнь так изменилась? Куда делись все эти изящные длинные платья, все эти томные позы, романтические венецианские окна, пусть и нарисованные? Где туфельки с медными пряжками? Где, наконец, ее, моей бабки Рахили, холеные ручки? Уж их-то не могла «украсть» никакая революция…
Оказывается, могла и украла.
Впрочем, в детстве мне позволялось открывать большой скрипучий шифоньер с зеркалом, развязывать тюк из старой простыни и копошиться там, в темной пахучей утробе (крахмал, нафталин, затхлая шерсть и сухо скрипящий крепдешин), перебирая «шматэс». Там я откопала черную лаковую сумочку – «клатч», настоящие лайковые, с двумя дырками на указательных пальцах, перчатки, три ветхих воздушных, крючком вывязанных воротничка, а также множество бархатных, меховых и крепдешиновых обрезков.
Но что с детства было предметом моих вожделений, так это бабкина шкатулка с пуговицами, обклеенная настоящими морскими ракушками разной величины – горбатенькими, ребристыми ладошками, каждая наособицу, каждая своего цвета, от молочного до пурпурного, – как и пуговицы, что в ней хранились. Я откидывала ребристую крышку, выбирала самую большую перламутровую пуговицу, с блестящим стеклышком посередке, и спрашивала:
– А эта от чего?
И бабка сочиняла очередную историю из серии «у нас в Золотоноше»; и поскольку я не умела и не хотела шить, штопать, вышивать и вообще возиться с мерзкой кусачей иглой и нудной ниткой, вечно выпадающей из игольного ушка, история была, конечно, о нерадивой дочке тамошнего «почтаря» или фельдшера, об избалованной дочке, которая иголку в руках удержать не могла и пуговицы пришивать чуралась, а потому папаша каждый месяц привозил из Полтавы дюжину новых пуговиц, старые-то повисят-повисят на нитке, да и потеряются… И вот однажды посватался к ней человек удачный, уважительный и самостоятельный, из Фастова. Папаша обрадовался и по такому случаю решил заказать одному такому-некоему художнику дочкин портрэт, чтоб она – в красивом жакете с перламутровыми пуговицами…
Стоп! А между прочим: что же в конце концов стало с нашим портретом?
Да ничего, в сущности. Стоял на комоде, потом сгинул вместе с изрядной половиной семьи – обычная присказка рутинных трагедий моего народа в середине двадцатого века.
Но между тем утром, когда моя восемнадцатилетняя бабка Рахиль, еще не вытанцеванная моим дедом Сэндером, сидела на стуле и послушно смотрела туда, куда просил ее смотреть художник (на угол зеркала, где солнечный луч высекал снопы радужных игл), – так вот, между тем утром и бездной войны, эвакуации, нищеты и убожества послевоенной советской жизни произошло, как выясняется, кое-что еще.
Кое-какой эпизод…
Однажды, припомнила мама, классе в пятом она вернулась из школы, и в комнате за круглым столом сидела ее мать Рахиль, а напротив какой-то дяденька, торопливо вытиравший обеими ладонями лицо. И хотя он отворачивался и даже не кивнул на звонкое мамино «Здрасте!» – мама, девочка и в те годы приметливая, поняла, что дяденька плакал. А потом он ушел, чуть ли не бегом, даже не обернувшись на очень задумчивую мою бабку.
– Думаю, это он и был. Из Харькова приехал, перед своей свадьбой – в последний раз на нее поглядеть. А не женился-то, прикинь, сколько лет?
– Художник?! – ахаю я.
– Да какой художник, – отмахивается мама. – Он в те годы уже не был никаким художником. Тогда разве до баловства людям было. Он был главным технологом на каком-то крупном швейном предприятии – так Маня потом рассказывала, а Маня, их младшенькая, ох, та была наблюда-а-ательная… Постой! – Мама шлепает себя по коленям. – А вот пальто же, пальто, а?!
– Какое еще пальто?
– Ну, пальто ж ее – роскошное, шевиотовое, воротник норковый… ах ты господи, ведь это он ей привез, а? Я ведь теперь только поняла: привез тогда ей в подарок. Ну, как же! Откуда еще могло такое у нас взяться? Она, конечно, деду-то легенду сочинила – это ей было раз плюнуть. Но так, если подумать… больше неоткуда. Главный технолог предприятия, он это пальто ей, должно быть, спецзаказом провел… Да ты что, балда, не помнишь наше знаменитое семейное пальто?!
Как же такого не помнить, когда бабкино пальто – действительно роскошное, сшитое по каким-то заграничным лекалам, – сопровождало меня чуть не половину моей жизни. Вернее, прожив половину своей жизни, оно словно бы догнало меня на середине собственного пути, и далее мы существовали рядом. Сначала много лет его носила бабка – тогда еще высокая, статная, – и шоколадного цвета шевиот облегал ее фигуру так зазывно, что… (Тут опять мама: «Да на нее оборачивались!» Я: «Ты говорила – на пляже оборачивались». Мама: «И на пляже, и в пальто! Мужской глаз знаешь как цепляет!»)
Короче, бабка носила пальто до войны и в эвакуацию – вернее, в три эвакуации – на Кавказ, в Казахстан и, наконец, в Ташкент – пальто с собой потащила и, что удивительней всего, сохранила. Не продала, не обменяла на продукты даже в самые тяжелые военные зимы. Затем, в пятьдесят втором, когда поженились мои родители, пальто торжественно перешили маме – это был царский свадебный подарок: в то время такое пальто, говорит мама, уверяю тебя, совсем не на каждой даме было…
И мама, на которой пальто сидело умопомрачительно элегантно (каждая эпоха награждает свои ценности собственными эпитетами), тоже носила его ой-ёй-ёй сколько лет, пока, основательно его перелицевав, не сшила мне (кажется, классе в шестом) миленькую курточку до колен, выкроив из лысоватого воротника дивные обшлага на рукава. И я бы носила эту курточку с удовольствием, если б не все тот же двоюродный братец, который с поразительным упорством дразнил меня «полупердином», когда я ее надевала.
А на закате биографии – увы, столь частый удел многих блистательных биографий – роскошный шевиот отправился на хозяйство: из курточки сшили Дуню – ватную бабу с целлулоидной головой моей старой куклы, под которой грели обед. Просторное шевиотовое брюхо, подбитое ватином, хранило нутряное тепло вареной картошки, макарон по-флотски, а чаще всего гречневой каши – любимого блюда нашей семьи.
Вот тут о гречке. И о бабке…
В детстве я бесчисленное количество раз наблюдала, как моя бабка моет гречку. Сначала разбирала ее, сидя за столом на высоком, чрезвычайно неудобном табурете (ноги болтаются, спина согнута колесом), вылавливала щепочки, откатывала пальцем крошечные камушки, отсортировывала черные крупинки, наконец, ребром пригоршни скатывала горстку в частый сетчатый дуршлаг. Затем отобранную гречу принималась мыть, и мыла, и мыла, и мыла под сильной бесконечной струей…
Вбегая со двора на кухню, я говорила:
– Ба, ну ты здесь водопад погнала!
Она неизменно отвечала одной и той же притчей. Распевным тоном, громко, перепевая шум воды:
– Вот собрался жениться самый богатый холостяк местечка. И пошли сваты по домам. Везде один и тот же вопрос девушке задавали: «Ты сколько раз гречку моешь?» Одна отвечала: «Трижды мою». Другая, аккуратистка, хозяюшка, отвечала: «Аж пять!» Наконец, приходят в совсем бедный дом, выходит пичужка – смотреть не на что… «Сколько раз ты, милая, гречку моешь?» Поглядела она на них ясными глазками и говорит: «Пока чистой не станет». «От эту берем!» – закричали сваты…